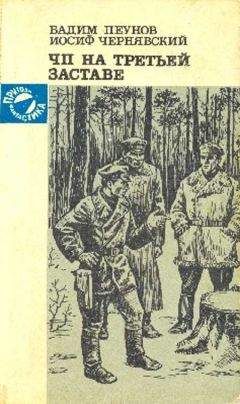Будет ли это все у Ольги в том рабоче-крестьянском мире, куда заманивает ее Борис Коган? Вдруг придется отказаться от чего-то, очень милого сердцу… Ну вот как от привычного и красивого имени Ванюша…
Посидев еще немного, Борис собрался уходить.
— Пора!
Ольга, улучив момент, предложила:
— Володя, Боря, давайте съездим в гости в Щербиновку, к Кате, Мы же собирались. А сейчас рождество, праздники.
Она эту мысль выгревала давно. Любила Ольга своего мужа, гордилась им — «вон какой красивый да ладный». Не терпелось ей показать его родным и знакомым: приехать в Щербиновку, взять под руку, пройтись по селу из конца в конец. А все бы смотрели пм вслед и ахали: «Какая красивая пара. А он-то — тополь! Да и она!..»
Испокон так было: съезжались па свадьбу все родственники, ближние и дальние. Гуляли два-три дня: пили, ели, плясали. А потом развозили по округе весть: «Ольга-то Яровая, ну, старой Явдохи младшая дочь, замуж вышла за чужого. Из города. Работает, при хорошей должности. И собою красавец».
Одно только тревожило Ольгу: не могла она, не имела права говорить даже родной сестре, что ее Володя в ГПУ. А она бы дни и ночи рассказывала и рассказывала, как он для людей старается, какое большое и щедрое у него сердце: «Он самый-самый лучший на свете».
Но если уж нельзя рассказывать о нем, то показать-то можно. Не было у Ольги разгульной деревенской свадьбы, так пусть люди увидят теперь ее счастье.
Ни Аверьян, ни Борис не подозревали, сколь глубоко и серьезно стремление Ольги съездить в гости к сестре. Но они в этом увидели свои возможности. «Когда-то, до истории со Щербанем, Иван Спиридонович одобрил такую поездку. Может, сейчас…»
— А что, возьмем и съездим! — согласился Борис. — Только отпрошусь у нашего балтийца.
* * *
«Едем!»
Хлопот у Ольги по этому поводу — по уши.
— Подарки нужны. И Кате, и ее родственникам.
— Старику Воротынцу? — удивился Сурмач. Ольга поняла ход его мыслей: отцу Семена Григорьевича. Но нельзя, нельзя было ей приехать без подарка. Мужа везет на показ. Что о нем подумают? Должны думать только хорошее. Пусть знают, что он добрый, щедрый.
Встал вопрос о том, какие подарки и где их взять. К удивлению Сурмача, у Ольги уже было все припасено.
Аверьяна все больше удивляла Ольга. Оказывается, он ее раньше совсем не знал, только думал, что знает. И вот сейчас открывает в ней все новое и новое.
— Володя, подарки должен дарить ты, — решила она.
Но Аверьян запротестовал:
— Еще чего! Чтобы я облагодетельствовал отца злостного врага Советской власти!
Ольга видела, что тут уж Володя не пойдет ни на какие уступки. Вот отсюда и начинался Аверьян Сурмач, большевик и чекист, которого она не понимала, а потому чуточку побаивалась. Нет, пожалуй, не то слово, не побаивалась, а не узнавала. И в такие моменты ей становилось тоскливо, хотелось, чтобы он стал прежним, ее Володя, мягким и добрым.
Она сразу же предложила компромиссное решение:
— Тогда ты Кате подаришь, а я — им, старикам.
— А этому работнику? Ну, от которого она ждет ребенка? — спросил Аверьян.
Ольга вдруг потупилась, зарделась.
— Как же можно, он же с ней… не по закону.
— Не венчанные? — не без насмешки спросил Сурмач.
— Не по закону…
— Эх, сколько еще глупости в тебе сидит! — посетовал Сурмач. — А если она любит? А если у них — по закону любви?
Ольга притихла. Аверьян начал замечать, что она уже научилась избегать разговоров на неприятную тему. Стоило ему насупиться, жена моментально улавливала его настроение и как-то вся внутренне менялась, становилась иною, будто поворачивала к нему сердце другой стороной.
* * *
Молодые только поднялись, когда явился Борис. Оживленный, шумный, он переполошил всех.
— Так жизнь проспите, лентяи! А ну — раз-два! Чтоб через минуту были на ногах. Я же рысака для вас нанял.
Действительно, чтобы отвезти Сурмача и Ольгу на вокзал, Борис Коган подрядил какую-то клячу. Под окнами на телеге сидел хмурый, давно не бритый дядька.
До Щербиновки добирались киевским поездом.
Приехали. Станция встретила разноголосым шумом. Вагон еще не остановился, а на его ступеньках повисли два дядьки, ловко вскинув перед собою по тяжелому мешку. А за ними уже бежали, суетились, толкались очумевшие, боящиеся опоздать, не попасть в вагон, люди. Богатое, торговое село Щербиновка, не взирая на праздники, спешило на базар в столицу.
Крепкий мороз разукрасил лица: подбелил усы, расписал румянцем щеки. От скученной толпы валил парок, как от взмыленных лошадей.
— Но-но! Табун! — покрикивал с высоты вагонной площадки на мужиков Борис Коган. — Разбежись, дай людям сойти!
Но его не слушали, лезли и лезли напролом в открывшиеся двери. Тогда Борис, подхватив мешки, которые тяжело легли у его ног, выбросил их па платформу. Владельцы мешков заголосили и, вовсю работая локтями и кулаками, полезли вслед за поклажей.
В образовавшуюся брешь прошмыгнул Борис и потянул за собой Ольгу. Потом пробился и Аверьян.
— За чем бы это они на базар так перлись? — спросил Коган у Ольги и сам же ответил на свой вопрос: — Советский червонец покою им не дает. Твердая валюта.
Вышли со станции. Морозец крепчал. Ни ветерка. Над трубами голубоватыми прозрачными вехами — дымок. Казалось, он родился однажды, очень давно, да так и застыл, закоченел на этом холоде, будто примерз к синей бесконечности.
— Хор-рошо! — вдруг заявил Борис.
Действительно, дышалось свободно, здорово, во всем теле ощущалась птичья легкость. Набрал Борис пригоршню снега, кинул в Аверьяна. Только не долетела снежка, рассыпалась.
И всем весело.
Ольге хочется быть степенной. Ну как же, не девчонка — замужняя. А задорный чертик, что поселился в ее душе при виде игривого Бориса, так и подмывает наскочить на озорника, толкнуть его, засыпать снегом, завизжать от удовольствия на всю улицу, на всю деревню.
— Да ну тебя, разыгрался, как стригун![3] — сказал Аверьян другу, сам едва управляясь с улыбкой.
— Эх, Аверьян, — пошутил Борис, — женился — и в старики записался. — Но балагурить уже перестал: слишком пристально присматривались к ним встречные прохожие.
А дальше пошло все так, как представляла себе Ольга. Она взяла своего Володю под руку, а Борис рядом, несет подарки. Встречают и провожают их любопытными взглядами щербиновцы.
Дом, в котором жила сестра Ольги, был добротный: на высоком фундаменте, под черепицей. Скотный двор и сарай покрыты гонтом[4] — тоже большая роскошь. Забор — как крепость, из остро затесанных горбылей. Ворота тяжелые, подворотня закрыта доской. Так вот вдруг и не зайдешь. «Журавинская ухватка», — подумал Сурмач.
Стучались довольно долго, лаял злой пес. Наконец калитка открылась. Сурмач увидел плечистого, крепкого дядьку с приятным лицом. Высокий чистый лоб, умные глаза.
— Ольга? Вот новость! — радостно встретил он пришельцев. — А мы только что говорили о тебе.
Ольга выставила Аверьяна вперед, подтолкнула.
— А это мой муж, Володя, — представила она Аверьяна. — А это его товарищ, Борис, — показала на Когана.
Старый Воротынец пожал мужчинам руки, поцеловал Ольгу и пригласил всех в дом.
— Гость на праздник — святой гость, — он мельком глянул на кожаную куртку Сурмача.
Просторный двор. По всему чувствуется, что здесь живет рачительный хозяин. Он насыпал всюду дорожки: и к скотному двору, и к сараю, и к калитке. Даже к навозной куче можно подойти в любую распутицу.
Семья сидела за праздничным столом.
— Позвольте приветствовать вас в вашей хате, — поздоровался Борис, по обыкновению моментально осваиваясь с обстановкой. — Пусть сопутствует вам счастье па всю долгую жизнь!
Глянул Сурмач на тех, кто за столом, и удавился: рядом с пустым стулом, с которого недавно встал хозяин, сидит… Ольга. Его Ольга. Только постарше этак лет на пять. Тот же овал лица, те же черные глазищи, правда, с синими подглазинами. «Катерина!»
Ольга еще раз всем представила своего Володю:
— Это мой муж, — она даже передала пожилой, совершенно седой женщине церковное удостоверение, купленное Борисом у попа.
«Мать Семена Воротынца», — догадался Сурмач.
Женщина была благообразна. Довольно полная: рыхлая складчатая кожа ходила на шее ходуном.
«По виду не подумаешь, что она родила и выкормила бандита. Впрочем, наверняка, мать того не хотела. Учила добру и злу в меру своего понимания жизни. А что получилось?»
Началась церемония вручения подарков. Екатерина с трудом вышла из-за стола. Аверьян догадался: на сносях.
«А где же этот… работник?»
Он сидел по другую сторону стола — тихий, будто прибитый. На вид лет под пятьдесят. Небольшого роста, плюгавенький. Нос утиный, глазки маленькие, ехидные.