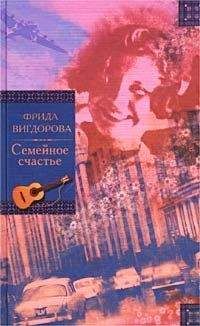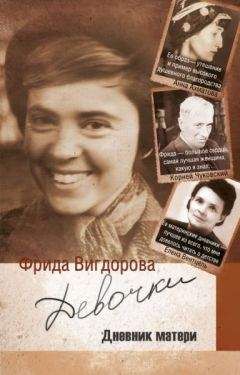- Вот-вот, сама и ответила! - с торжеством сказал Леша. - Я здесь два дня и уже не дышу! Ну, как бы тебе объяснить? Я приехал на время, а он вернулся... навсегда. Он... как бы тебе сказать? Он выбыл... Из дела выбыл, понимаешь? Ну, конечно, здесь хоть и тыл, а тоже дело, и как пишут в газетах, и тут победа куется. Каждому ясно, ну что тут агитировать? А все равно такому, как он, это зарез. Он привык, чтоб в самой гуще. Это уж такой характер. И до войны - ну, вспомни! Чуть что - Поливанов! Он сильный!
- Ну, если сильный, - сказала Саша, - значит, и здесь и всюду должен быть сильный. Всегда.
Леша остановился.
- А как ты скажешь: что скорее сломается - лоза или дуб?
- Знаешь, - сказала Саша, - ты стал говорить чересчур красиво. Лоза, дуб... Митя - не лоза, не дуб. Он человек, и если он сильный - так сильный всегда. А может, ты прав, он сильный. А слабая - я. И я ему товарищем быть не могу. А, Саша.
- Вранье! - сказал Леша. - Вранье, вот и все. Я тебе про вас ничего объяснить не могу. Я про это не знаю. Про вас двоих - не знаю. А про него знаю: сегодня война, сегодня это самое главное - и я хочу там жить, там, если надо, и умереть. Там у нас легче. А здесь... тяжело. Не могу тебе объяснить. Я бы здесь спятил. Там каждый для товарища рубашку с себя снимет, последний табак отдаст. Да что рубашка, что табак?.. Жизнь отдаст за товарища. А здесь... Да я на вашу хозяйку поглядел - сразу удавиться охота... Кадка с капустой... Ну их к чертовой матери! Я вот на рынке был, Ане орехи покупал. Сидит толстый, рыхлый, рубль - орех. Ну, знаю, знаю, есть и другое, да ведь сверху-то, на виду это! И беспомощность... Сил у него много, а куда девать? Вот и мается. Мой тебе совет - пожалей ты его... Если можешь. Если любишь... Просто люби и жди. Вот тебе мое честное слово.
Я не могу! - упрямо и горько ответила
- Тогда плохо дело...
С минуту они шли молча.
- Ладно, - сказала Саша, - иди домой, побудь с ним.
Леша поцеловал сестру, поглядел ей вслед и повернул домой. Шел озабоченно, непривычно тихо. И вдруг подумал о том, что и у него когда-либо будет жена... Жена - какое странное слово. А что это значит? Это значит ухаживать больше не надо. Договорились: давай поженимся - и поженились. А что же дальше? Дальше... И вдруг Леша ускорил шаг. Нет, нет, никогда моя жена не пойдет вот так, опустив голову, как Саша. Никогда ей не будет печально рядом со мной. А что надо будет сказать, - мне и скажет. Мне одному, только мне...
Неужели и у него, у Леши, тоже будут жена и дети? Леша зашагал еще быстрее. Ему вдруг захотелось запеть. Он поглядел вокруг - люди! И не запел.
Дома его ждал Митя. Внимательно, испытующе посмотрел в лицо, опустил глаза. Перед ним на столе лежали фотографии, подписи к ним. И вдруг он снова поднял глаза и сказал:
- Садись. Няня, чайку бы.
- Чайку? - удивился Леша и, подмигнув Мите, достал из рюкзака заветную флягу.
Поливанов давно не пил. Но еще до того, как Леша налил в стакан, еще только услышав запах самогона, Поливанов вдруг забыл, что он в Ташкенте. Все, все всколыхнулось в нем: первые дни фронта, первый вылет на партизанскую землю. Он снова почувствовал, как вздрагивает самолет, отчетливо услышал разрывы, увидел ярко-красные сердцевины в черных клубах и почуял запах порохового газа. Вспомнил землянку, залитую водой, и чавканье грязи под сапогами. Он снова лежал на снегу в поле и снова окровавил руки о немецкую проволоку...
- Ты что застыл? Ты пей! - услышал он Лешин голос. - Так вот, Колька Юрченко владел бреющим полетом, как никто. Он, бывало, прижимал машину к земле метров на пять. Глаза у него вечно были воспаленные - из-за этого некоторые думали, что он трус. Но я тебя уверяю: не трус. Я с ним летал. И однажды он предложил таранить. Это не каждый предложит, могу тебя уверить, могу за это поручиться: трус таранить не предложит. И еще у него была замечательная черта - не признавал суеверий. Плев л на черную кошку. И потом была у нас такая девушка разнесчастная - кто с ней потанцует, тот из полета не возвращается. А он с ней танцевал - и ничего.
Беззащитное существо человек, - думал Поливанов, слушая Лешу, держишься, держишься, а потом запах какого-то несчастного самогона все в тебе растравил, и ты не можешь больше держаться в узде... Что он там говорит?
- Понимаешь, - говорил Леша, - стояли мы под Воронежем, ходили на задание почти без прикрытия. За две-три недели стали, как у нас говорят, безлошадниками. Ну, посадили остатки полка в теплушки - и в Сибирь. Переучиваемся на новых самолетах.
- Что за машины?
- Больше новой марки. Есть и от союзников.
- Хороши? - спросил Поливанов.
- Неплохие. Но вооружение никуда, ставим свое. А вообще машин пока мало. Наш маршевый полк на первой очереди, но сформируемся к зиме, не раньше.
- Долгонько.
- А что тут сделаешь? Конечно, сил нет дожидаться. Сам знаешь, как сейчас на Южном.
- А что, надеетесь туда?
- Надеемся...
- А я ведь там был, на Южном. Когда еще к Днепру отступали, снимал для хроники истребителей... Эх, Лешка!..
Нет, не надо ничего в себе размораживать, ничего не надо вспоминать. Ведь решил: баста, похоронено, почему же все снова поднялось со дна души и так же болит, и так же не дает покоя?
- Митя, ты что не отвечаешь? Я спрашиваю - ты почему так долго из госпиталя не писал? Саша извелась.
- Неизвестно было, чем кончится: не буду ли калекой.
- Здравствуйте! А если бы калекой - не объявился бы?
- Не объявился.
- Ну, знаешь... Значит, если Сашу покалечит, она должна бежать из дому?
- Я мужчина.
Леша хотел сказать: "Ты баба", но сказал:
- Не пойму я тебя. Давай лучше стакан, налью.
- Налей. А знаешь, как сказала одна женщина моему приятелю? "Я тебя люблю. Но имей в виду, покалеченный, изуродованный ты мне не нужен". Так и сказала. Со всей, как говорится, прямотой.
- И такую дрянь ты равняешь с Сашей?
- Потише, не шуми. Я Сашу знаю, не беспокойся. Но я не привык искать помощи. Я...
- Ты, ты... - с грустью сказал Леша.
И тут Митю прорвало. Он рассказывал - и клял себя, что рассказывает, вспоминал - и клял себя, что вспоминает вслух.
- Наш брат, кинооператор, часто ходил в боевые вылеты, но на штурмовике пассажиром не полетишь. А мне здорово хотелось. Пришлось изучить пулеметную установку на ИЛ-втором. Ну, попотел, изучил это дело.
- С твоей головой не так уж трудно.
- Да, с моей головой... Одним словом, превзошел. Меня учил толковый парень, он уважал кино, видел какую-то мою хронику и учил меня вовсю. К тому же эскадрилья таяла, каждый человек был на счету, ну, тут и кинокорреспондент сгодился, взяли меня на штурмовик воздушным стрелком. Стал я летать с Сергеем Болотиным, - не попадался тебе такой? Под самый Новый год мы получили здание на разведку. Надо было узнать, не подбрасывают ли немцы танки. Сергей просмотрел маршрут, все сообразил. Взлетели. Видимость была хорошая.
Поливанов рассказывал, и ему казалось, что рассказывает не он, а кто-то другой. Слова ему не повиновались. Что это значит "видимость хорошая"? Он помнил до мелочи все, что видел в ту минуту: дорога, кухня, немцы стоят в очереди с котелками. Все как на ладони - лицо, котелок, автомат. А когда летели назад, увидели железнодорожную станцию и штук восемь автобусов.
- Такой цели Сергей пропустить не мог, сам понимаешь... И так мы вошли в азарт - четвертый заход, пятый, Сергей в развороте, - я по ним стреляю. И в горячке перестали следить за воздухом. И вдруг в хвосте - "мессер". Сам знаешь, где один "мессер", там и второй. Один "мессер" дал по кабине, другой повторил. Скорость гаснет, до земли метров семьдесят. И прыгать уже нельзя... Бац!
Поливанов снова, как тогда, услышал голос Сергея: "Помоги!", услышал запах гари - горела кабина, горели унты. Хвост придавил кабину, Поливанов сорвал колпак, вскочил на крыло. Он отстегнул ремни, вытащил Сергея, а к ним уже бежали немцы. Самолет упал прямо в расположение немецкой танковой части, на брюхе подъехал к самому караульному помещению.
Поливанов рассказывал, держа в руках стакан. Он больше не пил, ему хотелось рассказать все как можно точнее. Он говорил:
- Вот так мы попали в плен... - и видел немца, который их обыскивал; немец испачкал руки в крови и вытер и об белый свитер Сергея.
И этот белый свитер с отпечатками крючковатых красных пальцев все стоял у него перед глазами и мешал, как мешает кость, застрявшая в горле. Самое трудное было рас
Сказать про машину. Их вез в машине жандарм. У него в руках был автомат, он направил его в грудь Сергею. У шофера - меховой воротник, ножом не пробьешь (в унтах остался кинжал, при обыске не нашли), да и кабина маленькая, не размахнешься. Поливанов думал тогда: я ударю, жандарм даст очередь - и прямо в Сергея. Если автомат взведен, а он наверняка взведен. Иначе зачем бы жандарм держал его на изготовку? Минута была упущена, - он и сейчас вспоминал об этом, презирая себя, - он упустил минуту: навстречу патруль, парный патруль, и еще, и еще! Выехали на поляну, к освещенному зданию. И тут, у крыльца, жандарм ухмыльнулся в лицо Поливанову: отсоединил от автомата магазин - патронов в магазине не было. Поливанов все это пережил и увидел вновь, а Леше сказал так: