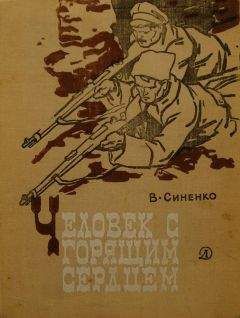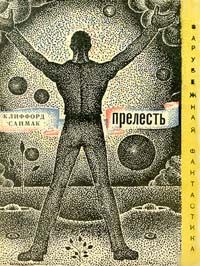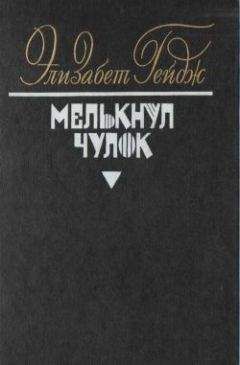— С приездом, горбатенькие! Будем вас исправлять. Слыхал, непослушные вы. Но здесь надо расстаться с гонором и дерзостью. Иначе... — повысил он голос до визга, — раскаетесь! Я выколочу из вас политическую пыль! Поняли или разжевать на спине кнутом?
— Позвольте! — возразил Федор. — Мы не осужденные, а только подследственные и, вероятно, будем оправданы. Угрожать нам, а тем более бить — недопустимое превышение власти.
— Прекословить? — взвизгнул Жирнов и приказал помощнику: — Калачев! Обрати этого бродягу в осужденного каторжника. Ать, два, три!
Калачев, старший надзиратель Евстюнин и их подручные набросились на Сергеева. Наголо остригли, одели в арестантскую одежду и затолкали в одиночку. Хоть отцепили ненавистного Акима, и сегодня можно уснуть одному.
Весь второй этаж — камеры для политических. На первом — уголовники, а в подвале — неотапливаемые карцеры. Двери камер решетчатые, и надзиратель, прохаживаясь по внутренней галерее, видел и слышал каждого узника. Спать положено в шесть вечера, и стоило кому-нибудь поднять голову, как его отправляли в карцер.
«Николаевка» была полна заключенных, но везде стояла тишина. Надзиратель улавливал малейший шорох. Вот кто-то перевернулся во сне, и он уже орет:
— Эй, волки! Замрите.
Только глухие стоны из подвальных карцеров, где лежат истерзанные и избитые люди, порой нарушают жуткую тишину.
«Николаевка»—не городская тюрьма, где протест заключенных достигает цели, здесь нельзя голодовкой защитить человеческое достоинство. Раз об этом не узнают на воле — успеха не будет. И многие подчинялись варварскому произволу.
Но Федор не мог с этим мириться. И жизнь его потекла меж одиночной камерой и карцером. Потеряв счет .времени, он пребывал в каком-то ожесточении.
Однажды в соседнюю одиночку привели новичка. Федор услышал, как надзиратель Евстюнин спросил:
— За что осудили?
— Сто двадцать шестая статья... — уклончиво ответил заключенный.
— Республики захотелось, каналья! Получай!
Раздался удар и жалобный стон. Бил Евстюнин смертным боем.
Схватившись за прутья двери-решетки, Федор с силой тряс их:
— За что людей мучаешь, изверг? Отпусти его!
Старший надзиратель ворвался к нему в камеру. Кривоногий, не лицо, а морда летучей мыши. Сергеев легко отбросил его. Не справившись с Федором, Евстюнин кликнул на помощь подручных. Прибежал даже Жирнов:
— В карцер его, миленького, в карцер! Ать, два, три!
Содрав с Сергеева одежду, тюремщики столкнули его вниз по лестнице. Упасть на ступеньки он не успевал — его подхватывали на свои кулаки надзиратели. Вили нещадно, с каким-то зверским упоением до самого подвала. Жирнов бежал вслед и сладострастно повизгивал:
— Так его, родненького, так! Ать, два, три...
Босой, в одном исподнем, весь опухший и синий, Федор упал на обжигающий холодом каменный пол карцера. И сразу же почувствовал, что стал сползать вниз. Выплюнув выбитые зубы, он собрал последние силы и полез вверх. Но куда бы ни приползал — везде покатая плоскость, уцепиться не за что. В таком карцере с конусообразным полом он впервые. Ни стоять, ни лежать. Что за дьявольская пытка!
Силы его иссякли, и он съехал в самый низ воронки, на дне которой замерзала вода. Стояли лютые морозы, а карцер не отапливался. Раны Федора сочились. Выдержать здесь две недели? А на меньший срок сюда не сажали.
Очнулся Федор в тюремной больнице. Не сразу понял, где он, а поняв, слабо улыбнулся: «палата лордов»... Так называли арестанты это спасительное убежище. Большинство после карцера с конусным дном «съезжало» прямо на таежное кладбище, а уцелевшие становились инвалидами. И только могучий организм Сергеева каким-то чудом выдержал немыслимое испытание.
Избиение заключенных шло по известному всем распорядку. В будни истязали по ночам, а в табельные дни и воскресенья — при солнечном свете. Били пудовыми кулаками, плетьми из бычьей кожи, коваными сапогами и просто связкой тяжелых ключей.
Выстояв в церкви обедню и приобщившись божьей благодати, Евстюнин, напомаженный лампадным маслом, сразу после службы шел в карцеры защищать «веру, царя и отечество». Спрашивал у истерзанного узника:
— В господа бога веруешь, нигилист-могилист?
Тот поспешно отзывался:
— Верую, как не веровать!
— А коли веруешь, эфиопская твоя душа, почему в политики записался, на царя-батюшку посягаешь? — И, перекрестившись истово, взмахивал кожаной палкой, набитой речным песком: — P-раз! Во имя чудотворной иконы пресвятой богородицы «Утоли моя печали»...
Палка-мешочек вроде бы мяконькая, но боль страшная. Следов не видно, а мясо от костей отстает.
— Перестань! — молил несчастный. — Я же сказал... Верую в отца, и сына, и святого духа. Чего тебе еще?
Но Евстюнин только входил в азарт:
— Во имя чудотворной иконы Киево-Печерской божьей матери... Два! Во имя богородицы «Всех скорбящих радости»... Три!
Бил, пока жертва не валилась замертво, пока не иссякал перечень чудотворных икон. А их на Руси много...
Но Федора Евстюнин бить перестал: никакого удовольствия! Тот пощады не просил, а только пугал надзирателя его же страхами:
— Воин царя Ирода, исчадие ада! Сатана по тебе давно скучает...
— Господь милостив, простит наши прегрешения... Кто, как не мы, обороняем его от нечестивцев? — неуверенно бормотал надзиратель.
С тех пор как Федор выжил в карцере «с конусом», Евсюнина объял суеверный страх. Чего доброго, выживет, выйдет на волю и отомстит.
В живучести Федора надзиратель имел случай снова убедиться. Когда Федор отказался идти на общую молитву, его вместе с молоденьким студентом зверски избили и бросили в карцер с полом, на котором были набиты сучковатые жердочки. Босиком не устоишь, да и лежать мучительно.
Студент был в глубоком обмороке. Тщетно Федор пытался привести юношу в чувство. Растирал виски, дышал на него, положил его голову к себе на колени... Но его собственные силы были на исходе. Как выдержать эти муки?
Прижав к себе изувеченного студента, Федор забылся.
Пришел в чувство от леденящего холода. На руках его лежал окоченевший труп.
Утром обоих доставили в больницу. Федора фельдшер еле отходил, а о студенте составили акт: умер от воспаления легких. В тюрьме врача не было, сюда изредка приглашали доктора с ближних приисков. Поверив Жирнову и Калачеву, доктор подписал лживый акт.
Новое злодеяние садистов, загубивших молодую жизнь, облетело тюрьму. Политические обязали первого же товарища, вызванного на суд в Екатеринбург, сообщить о нем на волю, потребовать вскрытия тела и судебной экспертизы, поднять кампанию в печати.
Весной о порядках в «Николаевке» зашумели газеты, в Думе выступили с запросами социал-демократы.
Начальство в «Николаевке» засуетилось. Из карцеров освободили всех заключенных, сорвали с полов жерди — изобретение Калачева, засыпали «конус», спрятали орудия пыток. Заключенные поняли: едет комиссия и палачей заранее оповестили.
Калачев и Евстюнин шныряли по камерам и мстительно цедили:
— Помните: комиссия за порог, а мы... Мы останемся!
Даже видавшая виды «палата лордов» охнула, когда в больничку доставили Артема. В скелете с потухшим взглядом его нельзя было узнать. Все тело в кровоподтеках и синяках, во рту незаживающие язвы и дыры вместо зубов. Федора терзала цинга, началась гангрена челюсти... Выживет ли? И все же глаза его блеснули жизнью, когда знакомые лица склонились над ним.
На третий день Сергеев зашевелился, а на пятый, увидев черную, исполосованную спину соседа по койке, прошамкал:
— Неужто, Кабков, смолчишь и не покажешь комиссии, как тебя разукрасили плетьми царские прихвостни?
Кабков, пожилой начитанный мужик, член Государственной думы (за что и был нещадно бит!) от крестьян Алапаевского горного округа, сектант и непротивленец, тихо произнес:
— Я не боюсь, но... Бог сам их накажет полной мерой.
Федор лишь яростно замотал головой. Истинно рабы, не только божьи и кесаревы — рабы собственной глупости!
Прибыла комиссия — екатеринбургский прокурор, товарищ прокурора из Казани и важный сановник из Перми. На их вопросы запуганная тюрьма ответила молчанием — оно было красноречивее жалоб и протестов. Только Сергеев, Гриша Котов и какой-то отчаянный уголовник заявили об истязаниях и пытках.
Скрепя сердце комиссия завела дело на администрацию «Николаевки», а трех жалобщиков решили перевести в городские тюрьмы. Сергеева «порадовали» особо:
— Поправляйтесь! В Перми вас ждет суд. Обвинение готово.
Но не сказали главного: от Дарочки, ее мужа Юрия и Егора прибыло подтверждение: «Конечно же, это Федор, наш брат и зять!»
В свой двадцать пять лет Федор походил на изможденного старика. Тюремный фельдшер, коновал по профессии, ставил клистиры, пускал кровь и чем-то смазывал раны — вот и все лечение.
После «Николаевки» пермская тюрьма показалась Федору раем. Но и тут уже вводили драконовские порядки, хотя начальник еще побаивался политических и все объяснял злой волей свыше. О нем сложили виршик: