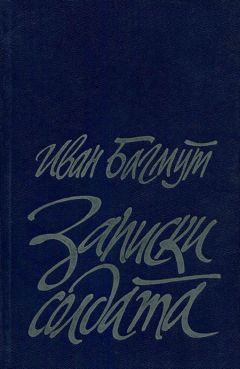Усталый, я заснул, но быстро проснулся от холода. Меня била дрожь, я не мог согреться, хотя сгибался в три погибели. Тогда я вылез из сена и вышел. На небе холодно светили звезды. Дома догорали, и лица бойцов, гревшихся у пожарищ, были медно-красные. Мне ничего не хотелось — только тепла.
Вдруг по мерзлому грунту загрохотали колеса кухни. Последний раз я видел нашу кухню накануне вечером, перед тем как идти в разведку, и поэтому искренне обрадовался, услышав голос Казарьяна — нашего кока.
Я получил свою порцию, но, вспомнив, что Земляк не скоро вернется из санбата, взял и порцию Земляка. Потом попросил добавки на двоих и, «разбомбив» все, почувствовал себя значительно лучше.
Вернувшись в сарай, я объявил «бачковую» тревогу (хотя еду мы получали не в бачках, а в котелках, эта формула упрямо держалась во взводе) и пошел к штабу полка в надежде погреться в комнате, если сегодня оперативным дежурным кто-либо из знакомых офицеров. Но навстречу уже бежали связные с приказом о выступлении.
Переход был невелик — мы еще до рассвета остановились в большом селе и остаток ночи провели в теплых домах, гостеприимно встреченные населением.
Под вечер к нам во взвод пришел полковой агитатор. У нас был свой политрук — заместитель командира взвода по политчасти, но — потому ли, что пророки как в своем отечестве, так и в своем взводе ценятся невысоко, или потому, что наш старший лейтенант каждую беседу начинал с фразы: «Боец обязан любить своего командира», — мы охотнее слушали полкового агитатора.
Бойцы всегда радостно встречали этого молодого офицера, который, как никто, умел поднять настроение, заинтересовать. Сейчас армия наступала, и солдатам хотелось, чтобы кто-то убедил их, что наступление это уже не остановится до окончательной победы. Нам хотелось, чтобы кто-нибудь не из нашего взвода, а извне еще раз подтвердил, что мы сильны. И полковой агитатор умел так поговорить, что бойцам становилась ясна перспектива, которую не затмевали даже трудные военные будни — самое страшное, что есть на войне. После беседы полкового агитатора каждому из нас казалось, что мы побывали в Ставке Верховного Главнокомандующего, а это для солдата имеет большее значение, чем можно предположить…
Лейтенант умел вставить в беседу крутую шутку, иногда, может быть, чересчур соленую, но всегда уместную и острую. Мы начинали смеяться заранее, как только он спрашивал, нет ли среди нас женщин, а выслушав, хохотали, как способна хохотать одна пехота.
Наш старший лейтенант, которого назначили командиром взвода вместо выбывшего лейтенанта, вернулся из штаба полка, когда беседа с полковым агитатором была в самом разгаре. Он кивнул агитатору и приказал:
— Отделение Красова — в разведку. Два других — в полковой наряд, патрулировать по улицам.
— Когда же еще к нам? — спросил Красов лейтенанта.
— А я не собираюсь покидать вас сегодня, — засмеялся тот. — Примете к себе в разведку?
— Зачем вам рисковать? — мрачно проговорил Красов.
— Ну вот! — рассмеялся агитатор. — Тоже нашли барышню!
— Товарищ лейтенант, — обратился к агитатору Брылев, — вы наше солдатское дело всегда выполните, а вот мы ваше — нет.
Я понимал Брылева: его крестьянская бережливость чувствовалась во всем. Лейтенант был для него ценностью, рисковать которой он считал нецелесообразным.
— Резолюция верная! — рассмеялся Кузьмин.
Наша дискуссия ни к чему не привела. Полковой агитатор проверил диски автомата и, провожаемый восторженными взглядами бойцов, вышел с Красовым.
На дворе было ветрено, неуютно. Мы шагали по пустынным улицам, приглядывались к темным кустам возле усадеб и всматривались в белую степь, куда ушли наши товарищи вместе с полковым агитатором. Мороз обжигал лица; руки, державшие оружие, коченели, ноги наливались усталостью. Мне думалось, что гораздо легче отдать жизнь сразу и значительно труднее отдавать ее по минутам. Опасность всегда рождала у меня какой-то праздничный подъем, а вот побороть будни — тут и впрямь нужна настоящая сила…
Часа в три ночи вернулся Красов. Он повстречался мне печальный и сосредоточенный, когда выходил из штаба полка.
— Что случилось? — спросил я, напуганный его необычайно озабоченным видом.
— Лейтенант ранен, — ответил он мрачно.
Мы грустно помолчали.
Потом Красов рассказал, как его отделение проникло в расположение врага и выяснило, что немцы отступили, оставив небольшой заслон автоматчиков. Итак, опасности с фланга, которой боялся командир нашего полка, нет.
Только перед самым рассветом нас сменили. Было часов шесть утра. Я прислонил винтовку к печке, чтобы оружие поскорее вспотело и его можно было бы почистить. Красов, Кузьмин и Земляк сидели у стола с карандашами в руках.
— Что это вы надумали писать письма в такое время? — удивленно спросил я.
Все трое молча поглядели на меня и снова погрузились в писанину.
— Читай! — сказал через минуту Красов и протянул мне листок бумаги.
Это было заявление о приеме в партию.
— Так-то, брат, — степенно сказал Земляк, глядя мне в глаза и думая о чем-то своем.
Передо мной встало лицо нашего полкового агитатора. Нет, сегодняшняя беседа не пропала даром.
Бойцы передали заявления старшему лейтенанту и сидели, тихо разговаривая. Я давно почистил оружие, но спать мне не хотелось. Проснулась хозяйка, принялась растапливать печь. Ее дочь, старательно прикрывая ноги юбкой, надевала сапоги, собираясь по воду.
— Хороший был лейтенант! — вздохнул Кузьмин и стал устраиваться на соломе.
— Почему ты говоришь — был? — взволнованно спросил я.
Он пожал плечами:
— Много крови потерял.
— Доктор же сказал — должен выжить, — возразил кто-то из присутствующих.
— И о нашем лейтенанте фельдшер говорил, что скоро поправится, а умер… — проговорил Земляк.
— Наш лейтенант умер? — испуганно переспросил я.
Мне никто не ответил.
Погиб в первый день и в первом бою, а как он мечтал о подвигах…
Но на войне долго грустить не приходится. За селом послышалась далекая стрельба и вскоре затихла. Это стало темой разговора. Связной, пришедший звать старшего лейтенанта в штаб, рассказал, что наши перебили немецкий заслон, замеченный ночью Красовым.
До обеда каждый из нас занимался личными делами, потом ходили на другую улицу поглядеть на единственного оставшегося в селе после гитлеровцев индюка. День был солнечный, из домов высыпала детвора, у ворот группками стояли девушки, и почему-то казалось, что сегодня воскресенье.
Во второй половине дня пришел приказ готовиться к маршу. Полк выстроился на улице и простоял часа три, до тех пор, пока не стемнело. Холод был ужасающий, и все обрадовались, когда наконец пошли.
За селом начинался лес. Головное подразделение подошло к нему и остановилось. Чтобы хоть немного согреться, я поспешил вперед поглядеть, почему задержка. Дорога поднималась в гору, потом спускалась в балку и снова шла на подъем. В балке стояла батарея «76», на конной тяге, и задерживала всю колонну. Каждые несколько минут комбат подавал команду. Мне раньше не доводилось слышать артиллерийские команды, и потому казалось странным ее протяжное звучание: «Шагом а-арш!» После «а-а-арш!» лошади рвались вперед, но, потоптавшись, останавливались. Комбат и ездовые несколько минут ругались, лошади за это время немного успокаивались, и комбат снова выкрикивал: «А-а-арш!» Дальше все повторялось сначала. Я не стал дожидаться, чем все это кончится, и пошел к лесу. Бойцы группками расположились у костров, я тоже подсел к ним и грелся, пока колонна не тронулась.
Поднялся ветер, похолодало еще больше, я старался втянуть шею в воротник полушубка, но воротник на солдатском полушубке так узок, что имеет скорее символическое значение. А полк двигался медленно, часто останавливался, и согреться было невозможно.
Далеко за полночь мы вошли в большое село. Колонна остановилась, и каждый из нас прислушивался к разговору между командирами, затаив один самый жгучий вопрос: останемся ли мы здесь на ночь или двинемся дальше?
Почти вся улица, на которую мы вышли, выгорела. Село взяли, вероятно, сегодня днем; на месте сгоревших домов кое-где блестели раскаленные головешки, к небу поднимался едкий дым.
Полк стоял. Мы были уверены, что вот-вот раздастся приказ старшего лейтенанта искать квартиру, но он крикнул: «Не выходить из строя!»
Тогда я схитрил: отпросился у командира отделения напиться и шагнул в первый же уцелевший дом. Там было полно народу, бойцы, стоявшие у самой двери, предложили мне немедленно покинуть помещение. Я, не возражая, стал свертывать самокрутку, зная наверняка, что, пока я ее не закурю, ни у кого не хватит совести выгнать меня на мороз. Тем временем подошли еще бойцы, меня протолкнули на середину комнаты, и я перестал быть центром внимания.