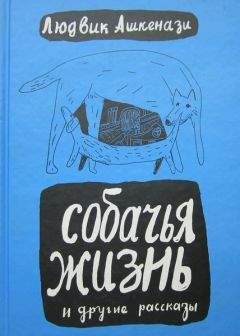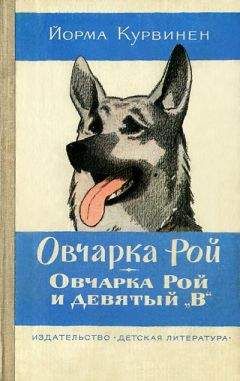Потом он заплатил за пиво и за кофе с ромом и пошёл к двери — совсем твёрдо и прямо.
А Зизи встала и пошла за ним.
Я её зову:
— Зизинька, не ходи, туман на дворе, подожди, куда ты?
Но она даже не оглянулась.
С тех пор у Зизи был хозяин.
Правда, слово «хозяин» к профессору очень не подходило; оно говорит о какой-то силе, а он весь был какой-то слабый и беспомощный.
Наверное, из-за этой своей слабости и беспомощности он всё старел и хирел: одним докторская степень прибавляет самоуверенности, а у других отнимает. Тот, кто очень гордится своими знаниями, тот ничего не знает, это уж будьте уверены. А кто действительно много знает, тот никогда не гордится, он только больше страдает.
Не могу вам сказать, что мучило этого дважды доктора; но ведь и то правда, жизнь никогда не была такой бессмысленной, пустой и мерзкой, как в те времена. Ну, ведь вы сами всё это испытали, пан директор.
Зизи-то, собственно, была большим щенком. И от этой своей любви она стала такой буйной и весёлой, что даже в те печальные дни можно было, глядя на неё, помереть со смеху. Может, она хотела его позабавить, а может, просто от счастья с ума сходила. Всякая любовь, пан директор, хотя бы вначале, выражается вот в таких штуках, — наверное, для смелости.
Ну и номера выделывала эта собака, пан директор, — умора! Прямо прирождённый комик! И походочка у неё была — чистый Чарли Чаплин, что спереди, что сзади. Плоскостопие у неё собачье было или ещё что — не знаю, но если впереди неё шёл кто-нибудь, особенно наш священник или зеленщица, она начинала вертеть задом точь-в-точь как они.
Очень она любила ездить на автомобиле и всегда садилась рядом с шофёром, — надеть бы ей, пан директор, шляпку с хризантемой, так никто бы даже и не догадался, что это не баронесса Флайшханцль, «Кожа, резиновые изделия, керамика».
А в остальном Зизи жила по-прежнему, ходила в «Золотой лев» и в «Корону», да ещё каждый день в четыре двенадцать — к автобусу из Кутной Горы, встречать своего профессора.
Где бы она ни была, но как только часы на церкви Святого Иакова пробьют четыре, она сейчас же встаёт и бежит на остановку, быстро и с такой радостью, что я порой ей даже завидовал.
Несколько раз я видел, как они встречались. Это всегда было одинаково. Глянут они друг на друга, вроде бы кивнут и потом идут вместе домой.
Про них ещё можно было бы много чего порассказать, пан директор, но я же понимаю, у таких больших людей, как вы, свои заботы; я только посмотрю, как там щенята в корзине. Но что меня в этой собачонке удивляет, так это — что она теперь взяла да и согрешила.
Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.[14] Через два дня его фамилию назвали по радио, и на этом красном плакате, списке расстрелянных, он так и значился как дважды доктор. Что он, собственно, сделал, этого никто долго не знал, и все только головами качали — вот, дескать, опять гестапо сцапало не того. Он ведь и мухи не обидел бы. А старый Здерадичек вспоминал, как принёс однажды доктору листовку, которую нашёл, когда ходил по грибы, и как доктор посоветовал сдать её в полицию, потому что немцы тоже хорошие грибники и могли эти листовки разбросать сами.
А после войны оказалось, что ему пришлось скрываться у нас потому, что он руководил в Праге большой боевой организацией и спас от Печкарни[15] и концлагерей больше тридцати людей. Хороший он был человек и интеллигентный, вот только об одежде не думал и денег не берёг.
Так вот, представьте себе, пан директор, что эта собака двенадцать лет каждый день, и зимой и летом, ходила к автобусу в четыре двенадцать. И каждый раз бежала во всю прыть, со всем собачьим усердием — только лапы мелькали.
И возвращалась по тем же улицам, повесив голову, горюя, что опять её профессор не приехал и надо ждать до завтра, когда пробьёт четыре часа.
Я часто за ней наблюдал. И автобус-то уже три раза сменился, у него теперь автоматические двери и отопление, кондуктор теперь женщина, и из тех, кто ездил в Кутную Гору перед войной, мало кто остался.
Посмотрели бы вы, пан директор, на глаза этой собаки, когда она глядит на дверь автобуса. Я видывал, как умирают собаки, и скажу вам, эта сучка умирала каждый день!
Я уж её и так и эдак уламывал, говорю: — Зизи, что же ты своих штук не выкидываешь, дурочка ты мохнатая? И на мотороллере не прокатишься. Ну что, скажи на милость, тебе в этом автобусе так нравится?
Эта собака мне доверяет и даже часто у меня ночует. Из моих рук она возьмёт и чёрствую корку. Но хозяином она меня все-таки не признаёт, и я на неё за это не сержусь. Я её понимаю.
Когда человек теряет возлюбленную, он часто привязывается к тем, кто знал их обоих. Такой человек говорит себе: «В тот день, когда на ней был красный свитер, мы встретили Гонзу». И бежит за Гонзой посмотреть, не пристала ли к его пиджаку красная ниточка. Ну, вы меня понимаете, пан директор, я ведь ещё хорошо помню, как вы расстались с Боженой — или это была Лидочка?..
Но разрешите, я вам расскажу конец истории. С этой собакой случилось то, что ей, наверное, было меньше всего нужно, ведь животные этого ценить не умеют: она прославилась. Сначала о ней написали в «Народном глашатае», у нас тут один актёр статейками подрабатывал. Вот посмотрите, пан директор, вы сами можете прочесть. Или лучше давайте я вам прочту, а то уж очень она истерлась. Слушайте.
«Верность за верность. От нашего корреспондента. Исключительный случай собачьей верности был отмечен в Верхних Коноедах…»
Ну, я вам всего читать не буду, но очень красиво написано, я бы в жизни так не сумел. А потом приехали из кинохроники и пять часов ждали около этой остановки с киноаппаратом и прожектором — народу там собралось видимо-невидимо. А когда пробило четыре и Зизи пришла, легла и стала ждать, так дети чуть животы не надорвали. Этот оператор снимал ее и так, и эдак, и на корточки садился, прицеливался справа и слева, спереди и сверху, а потом снял дверь автобуса, как она понемногу рывками открывается.
Но потом сказали, что материал никуда не годится, и пленку даже не проявляли. А мне в ту ночь приснилось, что я сижу в кино и смотрю на наш автобус и вдруг вижу, вылезает из него профессор, в той же самой грязной рубашке, в которой он был на вечере.
Я ему говорю:
— Вот хорошо, что вы приехали, пан профессор, а то собачка совсем извелась.
И тут вдруг в этом кино стало светло, и все, кто там был, бледные как мел, бросились из зала, — мол, пожар. И все кричат: «Боже мой, это не та программа, мы же пришли на комедию!»
Проснулся я весь в поту, зажёг свет, чтобы посмотреть на будильник, и вижу, что у постели лежит Зизи. Когда она пришла, я не знаю, она приходила и уходила, когда ей вздумается.
— Зизи, — говорю, — вот тебе кусок колбасы, ведь сегодня четверг, а ты не была в «Золотом льве».
Так ведь не взяла, сучка; и, наверное, в ту самую ночь после киносъёмки она и спуталась с каким-нибудь кобелём. Видно, пришел её час, впервые после стольких лет. Никто не хотел этому верить, но щенята-то — вот они.
Ну, я уж пойду, пан директор, я же вижу, что у вас глаза слипаются. У вас есть о чём подумать о своём, а я вам тут собачью жизнь рассказываю.
Темно уже. Пойду брошу их всех в речку, прямо с корзинкой, а в корзинку положу камень. Никому они не нужны, что же с ними, с беднягами, делать! Ну, пойдёмте, крошки вы, малышки мои, ползунки слепенькие, зизенята маленькие.
А может, возьмёте одного, пан директор, а?
— Какие там дети! — сказал лейтенант Нестеренко. — Что вы, я ещё холостой. Нет у меня детей, и бог весть, будут ли. Не то чтоб я не хотел! Нет, просто как-то не складывается. Правда, я уже несколько лет переписываюсь с некоей Груней Руденко. Но она живёт под Воронежем, в колхозе имени Августа Бебеля, а я, как видите, сижу тут с вами на лавочке в парке прусского короля Фридриха в Потсдаме, хотя и сам тому не рад. А война уже третий год как кончилась.
Как-то починил я тут одному мальчонке велосипед. Наехал, бедняга, на фонарь и до того растерялся, что глядеть жалко. Привёл я ему велосипед в порядок и говорю: друг мой, надо овладевать техникой, в жизни нельзя полагаться на случайных прохожих…
Нет, детей бы я любил! И язык бы у меня с ними общий нашёлся. Только иногда думается — чувство у меня такое, что не суждено мне это. Есть у меня в Берлине как бы сын. Я его за родного считаю, хоть это чужой ребенок. И может, больше чем чужой. А всё-таки он — мой, хоть и зовут его Генрих. Вот если б привёл я его сюда, к этой скамейке, и спросил: «Heinrich, liebst du mich?»[16]— он бы ответил: «Jawohl, lieber Vater»[17]. Здесь, на немецкой земле, я уверился в одном: дети, дружище, — всё равно что воск. Что из них вылепишь, то и получится. Орел или пресмыкающееся. Только рука-то, которая лепит, должна быть нежной и твердой.