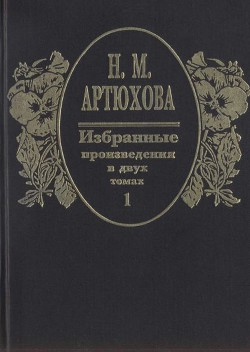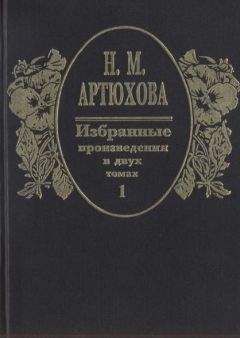Обе Матрешки были дома. Они сидели в кухне и чистили грибы, неторопливо, но и не медленно, как все, что они делали.
Лена всегда любила грибы — и собирать, и чистить, и есть. Но на эти грибы она посмотрела с холодным равнодушием и даже с враждебностью.
— Смотри, Леночка, белые! — сказала Тамара заискивающе и показала на кучку белых, положенных отдельно, напоказ и на восхищенье. — Подумать только! В июне белые! Как рано!
Но Лена не хотела восхищаться. Она села на лавку и даже не попросила себе ножик, чтобы принять участие в скоблении крепких, толстеньких подберезников, или «чалышей», как их называли местные жители.
— Тамара, — сказала она неестественным голосом, — ты как, совсем не будешь ходить в детский сад?
Тамара немного растерялась и посмотрела на мать. Глаза Аграфены Петровны стали остренькими и беспокойными.
— Некогда, некогда, Томочка! — запела она, покачивая головой. — Огород полоть, за скотиной ходить… А теперь грибы пошли, нужно на зиму запасать, и посолить, и посушить… Вот сегодня похлебку грибную сварим.
Она взглянула на часы и, переваливаясь, поплыла к печке. На сковородке что-то бурно и в то же время обнадеживающе заурчало, обещая вкусный обед румяным Матрешкам.
— А уж если время будет у Томочки, — продолжала Аграфена Петровна, возвращаясь к столу, — пусть в колхоз работать идет, трудодни зарабатывать. А здесь что? Маруська, лентяйка, будет дома бездельничать, а вы за ее детями ходить? И никто вам за это не заплатит, пра-а!
Лена молчала. Что можно было возразить? Конечно, никто не заплатит. Она видела, что пришла зря, что разговора с Томочкой не выйдет. Все-таки немножко совести у Томочки есть: сидит вся красная, потупив глазки.
— Маруся — не лентяйка, — сказала наконец Лена и встала, — она одна с ребятишками, ей трудно.
В сенях послышались тяжелые мужские шаги. Вошел мастер Матвей Кириллыч. Обе Матрешки засуетились и захлопотали вокруг него. Лена хотела уйти, но Матвей Кириллыч, намыливая руки, спросил, пишет ли отец, — пришлось отвечать ему, она задержалась.
Не может человек, если он не совсем бесчувственный, равнодушно видеть горячий блин, снимаемый со сковородки.
Но Лена мужественно ответила:
— Спасибо, мне не хочется, — когда Аграфена Петровна протянула ей блюдечко.
— Да ты бери, Лена, бери! — Томочка с хохотом прыгала вокруг нее, стараясь запихнуть ей в рот липкое тесто. — Ведь взяла уже! Уже попробовала!
Лена знала, что Матрешки обидчивые. Блин пришлось взять. На столе появилась миска с огурцами. Аграфена Петровна была мастерица солить огурцы и очень гордилась тем, что они у нее до лета сохраняются твердыми. По комнате распространился острый запах чеснока и укропа.
И опять:
— Да спасибо, Аграфена Петровна, мне не хочется! — и опять скачет Томочка и силой навязывает угощение.
— Лена, бери, — сказал Матвей Кириллыч, садясь за стол. Он откусил сразу пол-огурца, плеснул на пол рассол из середки и повторил с важностью, выговаривая на «о»: — Бери, Лена. Организм требует соков!
И Лена ушла с холодным огурцом в руке, с горячим блином во рту и с тяжелым камнем в сердце.
XV
«Зайду еще к Зине, — решила она, — и тогда уже все будет окончательно».
От их дома к речке прошел Саша с удочками. А за ним подобострастно, как маленькие собачонки, семенили мальчишки: впереди с трудом поспевал Витька, за ним растянулись по росту Кирюшка, Боба и Кук.
На полдороге Боба обернулся и грозно прикрикнул на Кука. Тот зашагал медленнее и наконец отстал. На крыльце Марусиного дома одиноко дремал Коленька, приткнувшись круглой щечкой к верхней ступеньке. Рядом была брошена курточка и лежало квадратное одеяльце, на котором — предполагалось — он будет сидеть.
Лене очень хотелось отнести Коленьку в дом, но она не решилась, опасаясь гнева Маруси. Она только устроила малыша поудобнее, чтобы не затекли ножки, и хорошенько прикрыла его, так как день был свежий.
Зины дома не оказалось. В кухне сидел Зинин отец, бухгалтер Федор Максимыч, и, вынимая из чугуна горячую картошку, лупил ее на тарелку с розовыми цветами. Облупив каждую, он макал в деревянную солонку и ел с аппетитом. Картошка перестоялась, или, как говорили хозяйки, «охалела» в печке. Она была темно-желтая внутри и даже пахла нехорошо. Но Федор Максимыч поедал ее с видимым удовольствием.
— Укатила наша Зина. В город. С пятичасным. К бабушке. Тетя Вера обещала ей билет достать. На какие-то там гастроли, — проговорил он отрывисто.
Лена присела на лавку. Она знала, что Федор Максимыч пока не поест, разговаривать не станет. Ей было тоскливо, хотелось поговорить. Она зацепила за что-то ногой и увидела под лавкой немытую плошку. Вчерашний мусор мирно лежал на полу.
«Бессовестная эта Зина, — подумала она. — Не могла отцу настоящий обед сварить. По театрам носится, даже комнату не прибрала. Был бы папа дома, уж я бы ему…» — Она посмотрела в окно.
Кто-то медленно шел от ворот с вязанкой хвороста за плечами.
— Да ведь это мама идет!
«Эх, — подумала Лена с досадой, — как это я забыла про щепки!»
Наевшись картошки, Федор Максимыч повеселел и стал разговорчивым, как всегда. Он любил поговорить и страдал без слушателей. Лена слушала его охотно, и они были друзьями.
Федор Максимыч забрался на печку, Лена в два прыжка очутилась там же.
Печка, вытопленная хворостом и щепками, была не горячая, а только приятно теплая. Там было темновато, пыльно и очень уютно.
Федор Максимыч свесил с печки худые длинные ноги и оперся руками о колени.
— Да, Леночка, — начал он, — скучно здесь жить. Поговорить не с кем. Никаких умственных интересов. Ну что понимают, например, в литературе какой-нибудь Матвей Кириллыч или Маруся?
Он вздохнул и стал декламировать Лермонтова, которого одного признавал и любил.
— Да, Лена, вот это поэт был — Лермонтов!.. Ведь я, Лена, человек со средним образованием. Ведь если бы я, окончив гимназию, поступил в высшее учебное заведение, я был бы теперь человек с высшим образованием!
— Федор Максимыч, прочитайте ваши стихи, ведь вы пишете, я знаю, — попросила Лена.
Федор Максимыч долго молчал, потом решительно тряхнул черными волосами и взволнованно сказал:
— Хорошо! Я прочту…
Он стал читать и читал много.
Стихи Лене не понравились, они очень напоминали какие-то другие стихи, только были похуже. Писал Федор Максимыч про луну, про соловья, который поет печаль, про погубленную любовь и про разбитые грезы… Но из вежливости Лена сказала, что стихи хорошие.
Потом Лена взволнованно читала свои стихи, и Федор Максимыч похвалил — тоже только из вежливости…
Уж очень Ленины стихи не были похожи ни на какие другие стихи, которые ему нравились.
И писала Лена о коптилках, о блинах из серого крахмала, о своих тапочках.
Потом Федор Максимыч попросил Лену принести ему гитару и стал петь.
Пел он только грустные песни и, когда пел, нарочно дрожал голосом, чтобы было чувствительнее:
Пенится Желтое море
Бьется о берег крутой…
Лена обхватывает колени руками и видит большие желтые волны… летят чайки. Страшно умирать в море…
Мы пред врагом не спустили
Славный андреевский флаг…
Дрожат струны гитары, дрожит голос Федора Максимыча, дрожит что-то в сердце Лены…
Чайки, снесите в Россию
Русских героев привет!..
Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть!
Лена вспоминает все самое печальное, что только было в ее жизни. Отъезд папы на фронт. Отъезд из Москвы под тревожный рев гудков и сирен. Смерть бабушки…
Пенится Желтое море,
Бьется о берег крутой,
Чайки несутся в Россию,
Крики их полны тоской!