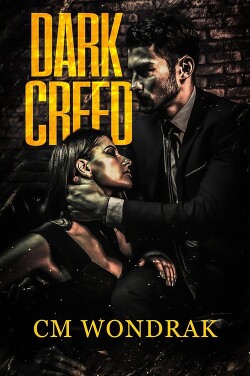сил нет.
Я что-то плету Пайпер про то, зачем так надолго пропадаю. Надо посмотреть, нет ли чего новенького на огороде. Вдруг там помидоры созрели. Или мне чистые носки понадобились. Пайпер не возражает — пусть я схожу одна, она туда ходить не особо любит. Все еще призраков боится. Она, конечно, знает, зачем я туда таскаюсь, и рада, что кто-то на всякий случай проверяет. А вдруг?
Джет всегда при ней, так что меня заранее предупредить некому. Каждый раз, когда подхожу к дому, ищу, нет ли предзнаменований, облако какое странной формы, например, тринадцать соро́к или лягушка размером с оленя. Иногда что-то такое ощущается в воздухе. А то вдруг накатывает жутковатое предчувствие. Опять осечка! Кто бы сомневался.
Ну и плевать. От малейшего шороха сердце сразу бьется как бешеное. Обычно это оказывается мотылек в окне. Или мышь. Или вообще ничего.
Однажды я начинаю прибираться в доме.
Двигаю мебель. Чищу ковры. Мо́ю тарелки холодной водой с мылом. Отскребываю грязь со стен.
А иногда просто сижу в своей комнатушке или в той комнате, где спали Эдмунд с Айзеком. Вдруг что-нибудь высижу?
Иногда надеваю его одежду и брожу по дому, ищу незнамо что.
Я пугаюсь самой себя. Я превращаюсь в призрак, которого боится Пайпер.
В тот день мы идем вместе с Пайпер, она хочет вымыться. Бесполезно вслушиваться в свои предчувствия, когда рядом Пайпер. Если какие знаки явятся, то уж точно не мне.
Таскаем ведро за ведром, как обычно, наполняем ванну. Вода все равно холодная, но мыться в ванне приятней. Потом сидим в саду, перебираем книжки, ищем нечитаные. Вроде как в былые дни, ну, до войны, бегали в киношку — просто чтобы время убить.
Покой, тишина, только Пайпер тихонько напевает, пеночка-теньковка тенькает на яблоне, а я страницами шуршу.
И тут звонит телефон.
Такой незнакомый звук, что мы не сразу вспоминаем, что полагается делать.
Вечность проходит, а мы все не двигаемся.
Пайпер в полном ужасе. Глаза как блюдца.
Но я всю жизнь подходила к телефону, стоило ему зазвонить, и сейчас слишком поздно менять привычки.
Снимаю трубку, слушаю, но сказать ничего не могу.
Алло? Поначалу голос кажется мне незнакомым.
Алло, слышу я умоляющий голос, алло, кто это, пожалуйста, скажите что-нибудь.
И тут я узнаю этот голос.
Алло, говорю я. Это Дейзи.
В Нью-Йорке я могла только лежать, уставившись в стенку. Молчала — окаменела от гнева и горя. Меня запихали в больницу и продержали там несколько месяцев. Ела я теперь чрезвычайно охотно, это смущало врачей и путало все их представления о том, что со мной и почему я тут. Никто не мог понять, что я делаю в больнице. Но объяснять я ничего не собиралась.
В конце концов им пришлось меня выписать, ни в чем не разобравшись — хотя в чем тут разбираться?
Вот вам объяснение, слушайте внимательно и вы, и врачи.
В больницу меня запихнули, потому что так всем было удобнее. Только так меня можно было вывезти из Англии. А мне совершенно неинтересно было морить себя голодом, замышлять самоубийство, резать вены, мне ни к чему было себя наказывать, калечить и чего-то лишать.
Конечно, я умирала, но разве не все мы умираем? Каждый день, частичка за частичкой, я умирала — от утраты.
В таком состоянии может помочь — что тогда, что сейчас — только одно: крепко держаться за то, что любишь. Я стала записывать, сначала отдельными кусочками, по одному предложению, по паре слов. Больше за раз не получалось. Потом стала писать подробнее — горе притупилось, но так и не отпустило.
Теперь я почти не могу перечитывать свои записи. Труднее всего читать о счастливых днях. Иногда я просто не в силах заставить себя о них вспоминать. Но ни за что не откажусь ни от малейшей детали. Держусь за то, что произошло шесть лет назад, — только так и могу выжить.
Прошлое никуда не уходит, живет в моей памяти, в моем теле, в моих снах.
Война длилась долго — бесконечно долго.
А потом кончилась. Хотелось бы сказать, навсегда, — но это была бы слишком большая везуха.
Оккупация продолжалась только девять месяцев, к Рождеству первого года все было кончено. Но к этому времени я уже оказалась в Нью-Йорке, не потому, что хотела сюда, а потому, что меня, с одной стороны, сюда тащили, а с другой стороны, оттуда выпихивали. Не обошлось и без шантажа. Сопротивляться сил больше не было — после всего, что пришлось пережить.
Хуже всего даже не госпиталь, не одиночество, не война, даже не разлука с Эдмундом.
Страшнее всего — не знать наверняка.
В наши дни модно рассуждать о том, как прекрасно прожить короткую, как буря, жизнь, а потом красиво умереть — а помереть теперь ничего не стоит. Но я не померла. Я уехала из Англии и застряла между небом и землей — надолго. Все это время я просто жду возвращения домой.
Вам, наверно, кажется, что я преувеличиваю, но разрешите мне все объяснить без прикрас. Да, я жду, но в то же время работаю, читаю книги, провожу дни в бомбоубежище, отовариваю продуктовые карточки, пишу письма, остаюсь в живых.
Дело в том, что меня ничем нельзя отвлечь от ожидания.
Время. Просто. Течет. Мимо.
Для начала я вернулась в лоно семьи. Познакомилась со сводной сестрой. Она мне сестра наполовину, а вернее, куда меньше чем наполовину. На восьмушку. На одну пятидесятую.
Ее назвали Леонора. Нос-Курнос, Чудо-Ребенок, Супер-Норм — Давина использует эти прозвища по сто раз на дню без малого уже пять лет.
Я точно знаю, как протекает беседа с моим отцом.
— Какое счастье, что с Леонорой никаких проблем, СКОЛЬКО ЖЕ ДЕНЕГ и не только денег мы угрохали на… (кивок в мою сторону).
Отцу, конечно, неловко, но он отвечает, да, дорогая. И замолкает, беззвучно постукивая костяшками пальцев — от сглазу — по сделанной на заказ Столешнице Из Белой Канадской Березы.
В ее возрасте я тоже была чудо-ребенком.
Ради отца я стараюсь делать вид, что в восторге от Леоноры. Впрочем, ей все равно. Она совершенно уверена, что от нее в восторге все.
Ей повезло. Так куда легче.
Я покинула лоно семьи через несколько дней после выписки из больницы. Большинство школ не работало — зачем, скажите мне, учиться, когда вокруг смерть и разруха? Поселилась в заброшенном офисном здании около