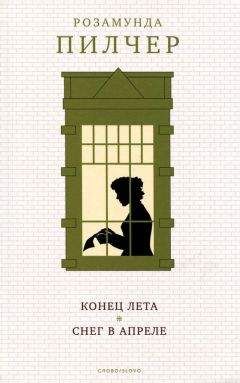Ханна Кралль
Опередить Господа Бога
В апреле нынешнего года Польша торжественно отмечает сорокапятилетие восстания в варшавском гетто.
Фашистские войска вступили на территорию Польши в 1939 году, а уже в сороковом во многих городах оккупированной страны были созданы «еврейские жилые районы» — отгороженные от остальной части города кварталы, где под неусыпной охраной жило, а вернее, медленно умирало загнанное туда еврейское население. Начавшаяся вскоре планомерная ликвидация гетто завершилась в сорок третьем году. Однако в Варшаве ворвавшимся на улицы гетто вооруженным фашистским отрядам неожиданно было оказано сопротивление. Неравная борьба продолжалась недолго: в середине июля развалины полностью уничтоженного района окончательно опустели. Но до того нескольким группам участников восстания удалось выбраться из-за стен, Об одном из них, члене штаба повстанцев Мареке Эдельмане, написана книга. Называется она: «Опередить Господа Бога», издана в Кракове в 1977 году. Автор, Ханна Кралль, нарисовала «двойной» портрет своего героя. На страницах этой небольшой книжечки встретились и перемешались два времени: последние страшные месяцы существования гетто, рассказ о которых записан со слов Эдельмана, и последующие — в мире без войны — годы жизни и работы его самого и его коллег-медиков (Эдельман — кардиолог, ординатор одной из лодзинских клиник).
Книга Ханны Кралль вызвала огромный интерес — и не только в Польше, где в памяти еще многих живо время войны и оккупации. Меньше чем два года спустя выходит второе издание (сейчас — к апрелю 1988 года — готовится третье, очень большим для Польши — пятидесятитысячным — тиражом); за короткое время книга переведена на 12 языков; предисловие к западногерманскому изданию написал Вилли Брандт.
Нашлись у этого уникального репортажа и противники; возмущение вызывала как бы намеренно «антигероическая» позиция героя. Эдельман, говоря о прошлом, всячески избегает пафоса и громогласия, не допускает ни малейших прикрас, никаких преувеличений и отступлений от того, что происходило в действительности. О мужественной борьбе горстки обреченных на истребление людей, героизму которых отдал дань уважения даже руководитель акции по уничтожению гетто, эсэсовский генерал Юрген Штрооп[1], рассказывается обыденным, сдержанным, нарочито приземленным тоном. Столь же бесстрастно описан ужас повседневного существования, не укладывающиеся в уме, но ставшие внутри стен гетто реальностью бытовые подробности, невозможные в нормальной жизни поступки, в которые вместилось все — от проявления высочайшего благородства до утраты человеческого облика.
Однако слышимые нами скупые, негромкие слова — лишь оболочка, скрывающая огромное напряжение неустанного состязания с Господом Богом, состязания, победить в котором — значит спасти по крайней мере еще одну человеческую жизнь. И уж совсем не обозначенная, незримая, постоянно присутствует на страницах книги сама История.
— На тебе в тот день был красный пушистый джемпер. «Отличный джемпер, — добавил ты, — из ангорской шерсти. Очень богатого еврея…» Поверх два кожаных ремня крест-накрест, а посередине — на груди — фонарик. «Надо было меня видеть!» — сказал ты мне, когда я спросила про девятнадцатое апреля…
— Так и сказал?
Холодно было. В апреле по вечерам бывает холодно, особенно когда ешь мало, вот я и надел джемпер. Да, я его действительно нашел в вещах одного еврея; после того, как их семью выволокли из подвала, я взял себе джемпер из ангорской шерсти. Отменного качества: у этого типа была куча денег, перед войной он пожертвовал в ФОН[2] на постройку самолета или танка, чего-то в этом роде.
Я знаю, ты любишь такие детали, потому, наверно, про него и упомянул.
— Ну нет. Упомянул — поскольку хотел кое-что подчеркнуть. Деловитость и спокойствие. Вот что тебе было нужно.
— Просто я говорю так, как мы все тогда об этом говорили.
— Стало быть, джемпер, ремни крест-накрест…
— Допиши еще: два револьвера. Это выл высший шик — револьверы на ремнях. Нам тогда казалось, у кого есть два револьвера, у того есть все.
— Девятнадцатое апреля: тебя разбудили выстрелы, ты оделся…
— Нет, пока еще нет. Меня разбудили выстрелы, но было холодно, к тому же стреляли далеко и вставать было незачем.
Оделся я в двенадцать.
С нами был парень, который принес с арийской стороны оружие — он собирался сразу идти обратно, но было уже поздно. Когда начали стрелять, он сказал, что у него в Замосьце в монастыре дачка и он знает, что живым не останется, а я останусь и потому должен после войны об этой дочке позаботиться. Я сказал. «Ладно, ладно, не болтай чепухи».
— Ну и?..
— Что «ну и»?
— Удалось тебе отыскать дочку?
— Да, удалось.
— Послушай. Мы условились, что ты будешь говорить, верно?
Пока еще девятнадцатое апреля. Стреляют. Ты оделся. Тот парень с арийской стороны сказал про дочку. Что дальше?
— Мы пошли поглядеть, что делается вокруг. Вышли во двор — а там немцы, пятеро или шестеро. Собственно, следовало их убить, но у нас еще не было в таких делах сноровки, да и страшновато было — в общем, не убили.
Спустя три часа стрельба прекратилась.
Стало тихо.
В наш участок входило так называемое гетто фабрики щеток Францисканская, Свентоерская, Бонифратерская.
Фабричные ворота были заминированы.
Когда на следующий день подошли немцы, мы включили взрывное устройство — наверно, сотню их разнесло в клочья, хотя точно не помню, ты должна это где-нибудь проверить. Я вообще уже многого не помню. Про каждого из своих больных мог бы тебе рассказать в десять раз больше.
После взрыва немцы пошли на нас цепью. Очень нам это понравилось. Против сорока — сотня, целая колонна, в боевом порядке, крадутся, видно, что относятся к нам серьезно.
Под вечер прислали троих с опущенными автоматами и белыми бантами. Кричали, чтоб мы сложили оружие, тогда нас отправят в специальный лагерь. Мы их обстреляли — в донесениях Штроопа[3] я потом нашел эту сцену: они, парламентеры, с белым флагом, а мы, бандиты, открываем огонь. Впрочем, мы в них не попали, но это неважно.
— Как — неважно?
— Важно было другое: что мы стреляем. Это необходимо было показать. Не немцам. Они умели стрелять лучше. Мы должны были это показать другому, не немецкому миру. Люди считают, что когда стреляют — это высочайший героизм. Ну и мы стреляли.
— Почему вы назначили именно эту дату — девятнадцатое апреля?