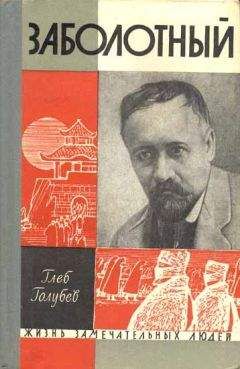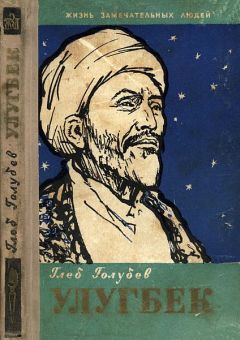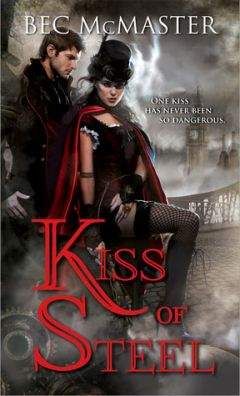В старости одолевают воспоминания. Чем меньше остается жизни впереди, тем все чаще тянет оглянуться, проверить, взвесить ее — не напрасно ли прожита. Заново переоцениваешь свои дела и проступки, вспоминаешь дороги, по которым ходил, людей, события, встречи. Эта напряженная и волнующая умственная работа не прекращается даже во сне.
Сегодня мне приснилось почему-то самое раннее детство и бабушка. Она у меня была религиозной и почти каждый вечер, закончив дневные заботы, читала мне перед сном жития святых. Такой я и увидел ее нынче во сне: в линялом платочке горошком, с лицом морщинистым и темным, она сидела в углу под образами и протяжно, слегка нараспев, читала пухлую книжищу в засаленном переплете, время от времени строго поглядывая на меня поверх очков:
— «Бе человек в Риме, муж благочестив именем Ефимьян и жена его Аглаида при Онории и Аркадии славныма цесарема римьскима, велик быв в боярех, богат зело…»
А потом, по какой-то странной ассоциации, еще не раскрытой до конца психологами, мне приснился мой учитель, Даниил Кириллович Заболотный. Я увидел его опять молодым, каким встретил впервые осенним днем далекого 1896 года.
Проснувшись, я весь день, чем бы ни занимался, все время думал неотступно о Данииле Кирилловиче, вспоминал встречи с ним, даже словно слышал его глуховатый голос и радостный, заливистый смех. И давнее желание рассказать всем об этом удивительном человеке властно потянуло меня к письменному столу. До сих пор я как-то все откладывал это «на потом». Но теперь воспоминания охватили меня, — так и родилась эта книга.
И еще я подумал: написав ее, я выполню завет Алексея Максимовича Горького, который столько раз говорил, слушая рассказы Заболотного: «Очень надо было бы написать книгу о вашей жизни, об учителях ваших и учениках…»
Я врач, медик, а не литератор и писал ее урывками, вечерами, без строгого плана, как говорится, «по вдохновению». Порой как-то так получалось, что в воспоминания вплетались мои сегодняшние мысли и раздумья, — надеюсь, читатель не посетует на меня слишком строго за это.
Долго я выбирал название, — оно, может быть, удивит некоторых своей старомодностью. Но его подсказал все тот же сон с бабушкой.
Жития святых… Каких только подвигов не совершали праведники в рассказах бабушки, чтобы доказать богу свою святость: и вериги носили, и в пустыню удалялись, и годами на одной ноге на верхушке столба стояли на манер аиста! Преподобный Феодосий, обнажившись до пояса, отдает свое тело на съедение оводам и комарам. Днем и ночью он носит власяницу и никогда не спит «на ребрах», а только «сед на столе», то есть сидя на стуле.
А зачем? Какую, спрашивается, пользу принесли они этими «подвигами» людям?
А вот перед вами жизнь, целиком, — до последнего дыхания, растаявшего на холодном зеркале, которое я держал в своих руках в тот прощальный час, — вся жизнь, без остатка, щедро отданная людям.
Даниил Кириллович Заболотный тоже частенько спал сидя, хотя это ему вовсе не нравилось, кормил своей кровью комаров в астраханских плавнях, замерзал и голодал, ухаживал за несчастными, рискуя каждую минуту смертельно заразиться от них при одном неосторожном, слишком глубоком вдохе. И все это он делал ради совсем не знакомых ему людей: русских, украинцев, индийцев, китайцев, арабов — ради всех людей на земле. Ради того, чтобы «уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений». Эти слова Писарева он очень любил и частенько повторял.
Благородная, поистине героическая жизнь-подвиг, спасшая сотни тысяч людей… Как назвать ее иначе, если не этим старинным и торжественным словом: житие?
КАК СТАНОВЯТСЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ
Познакомились мы с Даниилом Кирилловичем Заболотным осенью 1896 года, когда я поступил учиться на медицинский факультет Киевского университета. Кафедрой общей патологии руководил тогда знаменитый клиницист профессор Подвысоцкий, а Даниил Кириллович был у него ассистентом.
Много лет минуло с той давней поры — и каких лет! — целая эпоха… А я как сейчас вижу Заболотного, каким он впервые вошел в нашу аудиторию: высокий, слегка сутуловатый, с рыжеватыми редкими волосами, всегда небрежно всклокоченными. Из обшарпанных обшлагов выгоревшего военного сюртука далеко высовываются слишком длинные руки с удивительно гибкими, подвижными пальцами. Сколько раз потом эти чудодейственные пальцы мелькали у меня перед глазами, поражая изяществом, с каким Заболотный поразительно ловко обращался с пробирками, пинцетами, шприцами! А как эти руки успокаивали больного, мечущегося в бредовой лихорадке, ласково поглаживая его пылающий лоб!
Еще очень красивы были у Заболотного глаза — голубые, какие-то детские, всегда живые, полные мысли и доброты.
Был он тогда молод — всего тридцать лет! — держался застенчиво, часто смущался, особенно под нашими испытующими взглядами. А рассматривали мы все его особенно-пристально и придирчиво. Шутка ли: всего на несколько лет старше нас, а уже успел и в тюрьме побывать за участие в студенческих волнениях и два факультета закончить — естественный в Одессе и медицинский здесь, в Киеве! У него уже есть напечатанные научные работы и в то же время богатая практика работы земским врачом где-то на Подольщине.
И, несмотря на молодость, Заболотный очень принципиален и не боится критиковать общепризнанные авторитеты, — это нам тоже нравится. У нас по рукам ходит выписка из его недавней статьи в газете «Врач» с резкой, но вполне заслуженной отповедью известному профессору А.Д. Павловскому:
«Теперь уже прошло время, когда наука находилась в руках определенной «касты» жрецов, и из скромных уголков нередко выходят прекрасные работы… В стенах университета, которые я недавно оставил и лучшие предания которого еще не успел забыть, нас учили, что научные истины не решаются авторитетом одного человека, что они подготовляются кропотливой работой многих исследователей и что слепая вера в авторитеты не раз бывала причиной глубоких заблуждений…»
Но, пожалуй, больше всего привлекает нас в молодом преподавателе та геройская слава, которая уже окружает его. Мы знаем, что, работая земским врачом и спасая заболевшего крестьянского мальчика, Заболотный заразился от него дифтеритом. Его спасла только недавно открытая Берингом и Ру противодифтерийная сыворотка, которую он тут же впрыснул себе.
«…Как это теперь странно звучит: «Недавно открытая противодифтерийная сыворотка!», — невольно ловлю я себя на мысли. Теперь пенициллин и сульфамидные препараты продаются в каждой аптеке и электронные микроскопы делают видимыми даже мельчайшие вирусы. А ведь тогда микробиология только-только нарождалась. Все мы буквально бредили новейшими открытиями Пастера, Мечникова, Ру, Гамалеи и других замечательных «охотников за микробами».