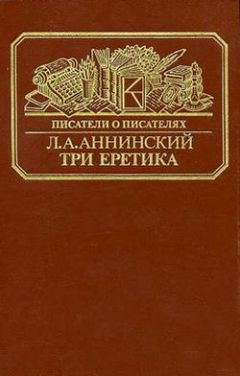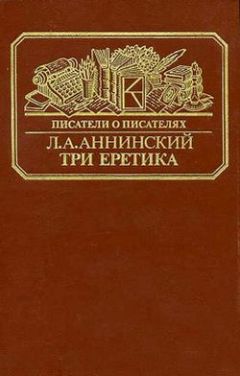Лев Александрович Аннинский
Три еретика
Поперек течения, или Уроки русской литературной «ереси»
Когда критик современной литературы, откликающейся, как правило, на злобу дня, на то, чем мы с вами нынче живем и дышим, издает вдруг книгу, посвященную событиям давно минувшим, писателям былого века, это диктуется весьма серьезными, должно быть, причинами.
Какими же?
И почему именно Лесков, Писемский, Мельников–Печерский оказались «героями» такой книги? Что нашел, что хочет найти в их судьбах, в их творчестве Лев Аннинский?
Все правильно: классика — вечная наша спутница, и почти все крупные критики рано или поздно начинают тянуться к ее урокам, ее свету и ее «уровню». Тут и естественный интерес к истокам, к началу начал, надо думать, сказывается, и дает о себе знать профессиональная потребность проверить свои силы, свои концепции и взгляды тем материалом, что не устаревает… Словом, если лета клонят поэтов к суровой прозе, то критиков они клонят к истории родной литературы, ее наследию и ее преданьям.
Примеров тому можно насчитать немало — и все–таки Л.Аннинский не только подтверждает общее правило, но одновременно предлагает и исключение из него. Критик — с самого начала возьмите на заметку — размышляет ведь не о Пушкине или Фонвизине (как, допустим, Ст. Рассадин), не о Лермонтове (как А.Марченко), не о Гоголе (как И.Золотусский), не об А.Островском (как В.Лакшин), не о Л.Толстом и Чехове (как В.Камянов) и не о Салтыкове–Щедрине или Блоке (как А.Турков), а о писателях, которых у нас привычно относят ко «второму ряду» общенациональной классики, о тех, кто не удостоился чести попасть в школьные программы, в рекомендательные списки, а потому как бы даже и не обязателен для чтения.
Усилиями нынешних литераторов, литературоведов, критиков и, не в последнюю очередь, самого Л.Аннинского, выпустившего в 1982 году книгу «Лесковское ожерелье», автор «Левши» и «Соборян», «Тупейного художника» и «Воительницы» стал в последнее время все настойчивее приобщаться к «первому ряду», титуловаться уже не «известным» или «выдающимся», а «великим». Однако и тут процесс канонизации далеко не завершен, не принят, по крайней мере, до сих пор читательским большинством, так что соседство с почитаемыми, но редко, от случая к случаю, а главное, недостаточно внимательно читаемыми Писемским, Мельниковым–Печерским и для Лескова пока еще не зазорно…
Вот вам, кстати, и первый в глазах автора книги резон: восстановить запаздывающую справедливость, привлечь пытливый интерес публики к текстам, которые пребывают пока в «запасниках» отечественной культуры, дать импульс к желанию открыть, постичь, освоить не только их несомненные художественные достоинства, хотя и это тоже, но тот прежде всего потенциал правды, боли, думы о России, что в них содержится невостребованным или востребуемым лишь отчасти, малою долей.
Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский в подобной актуализации, к нашему счастью, не нуждаются. Их и так читают, их и так ценят — уже потому хотя бы, что существует давняя традиция внимания и понимания, в которую каждый из нас сызмалу врастает настолько, что оглянешься и увидишь: а ведь наш с вами духовный мир, психический строй, наши понятия о добре и зле, красоте и мудрости, чести и бесчестии сформированы, воспитаны, отлажены именно «Евгением Онегиным», «Героем нашего времени», «Тарасом Бульбой», «Рудиным», «Обломовым», «Анной Карениной», «Братьями Карамазовыми», «Дядей Ваней»… В этом смысле, перефразируя знаменитое изречение, можно смело утверждать: высокая классика — это действительно наше все, это то лучшее, что растворено в каждом из нас, что, пройдя сквозь толщу лет, определило собою и душу русской культуры, и душу русского человека.
Сказать так о литературе «второго ряда» было бы сильной натяжкой. Ее, конечно, тоже читают, но именно читают, а не берут у нее уроки, не ищут в ней откровения и наставления. Она — вне канона, и часто воспринимается нами всего лишь как не «заслужившее» ореола святости прибавление к великому Завету, как своего рода развернутый беллетристический комментарий к нему.
Верно ли подобное мнение?
Нет, не верно, — всем ходом своих рассуждений доказывает Л.Аннинский. Разбираясь в наследии, оставленном Писемским, Мельниковым–Печерским, Лесковым, он и сам убеждается и читателей убеждает в том, что эти, как, может быть, и некоторые другие русские писатели — тут стоило бы, к примеру, вспомнить Чаадаева и совсем по–иному Николая Успенского, автора «очерков русского простонародного быта», — не дополняли и уж тем более не повторяли сказанное титанами нашей литературы, а говорили свое, и это свое находилось в постоянной — иногда открытой, иногда косвенной — оппозиции к канону, к магистральной общественно–литературной традиции.
Их путь, сразу же уточним для ясности, — не против, а поперек течения или, как порою казалось, именно вне его. Их место, если позволить себе свободную аналогию, сопоставимо с местом «зеленых» в нынешнем политическом раскладе западного мира, а роль соизмерима с ролью третьей силы, третьего мнения в накаленной, взрывоопасной ситуации, где все четко распадается — должно, по крайней мере, четко распадаться — на «да» и «нет», на «за» и «против».
Третий, как, увы, известно, чаще всего оказывается лишним, и Л.Аннинский, искренне сочувствуя Писемскому, Мельникову–Печерскому, Лескову в их поисках «третьего пути», «третьего варианта», показывает, что драма непонимания, непризнания с последующим выталкиванием из круга была, по сути, неизбежной. Вся история русской общественной мысли в XIX веке есть история не затухавших ни на секунду идеологических споров, история жесткой, «силовой» борьбы между правительством и интеллигенцией, западниками и славянофилами, прогрессистами и охранителями, либералами и революционными демократами. Борьбы, где в учет, естественно, шло прежде всего и по преимуществу то, что можно было более или менее однозначно отождествить с позицией одной из враждующих сторон. И где, опять–таки естественно, любой шаг в сторону понимался если и не как изменничество, ренегатство, то как отступничество, свидетельствующее — в лучшем случае — о нестойкости гражданских убеждений писателя, о размытой неопределенности его «общественного лица».
Кем понимался? Критикой, конечно, — она в России со времен Белинского добровольно взяла на себя роль и арбитра в спорах, и вдохновительницы идейных распрей, и ареопага, выносящего приговор, который не подлежит обжалованию, и, если потребуется, литературной инквизиции. Книга Л.Аннинского в этом смысле не только и, может быть, даже не столько повествование о трех писателях–еретиках, сколько хроника взаимоотношений этих писателей с критикой, воплощавшей, фокусировавшей в себе общественное мнение.