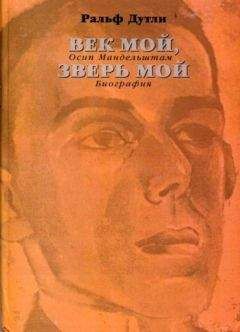Георгий Викторович Адамович (1892-1972)
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАНДЕЛЬШТАМЕ
(Воздушные пути, 1961, №2 стр.87-101)
Есть небольшой, тесный круг людей, которые знают, — не думают, не считают, а именно знают, — что Осип Мандельштам — замечательный поэт. Дождется ли он когда-нибудь широкого признания, как дождался его в наше столетие Тютчев или хотя бы Анненский, — о сколько-нибудь «широком» признании которого говорить, правда, не приходится, но к которому тянутся, И все настойчивее тянутся, нити какого-то особого, ревнивою восхищения, будто в его прерывистом, «мучительном» шепоте иные любители поэзии уловили нечто, именно к ним обращенное, им завещанное, такое, чего не нашли они у других русских лириков. Будущее Мандельштама не ясно. Он может надолго, и даже, пожалуй, навсегда, остаться поэтом «для немногих», — хотя, надо надеяться, эти «немногие» не дадут себя смутить или переубедить скептическим недоумением так называемой «толпы».
Что в конце концов определяет общее значение и ценность поэтического творчества? Не только самый состав слов, органичность ритма, прелесть отдельных строк, острота или меткость образов, но и то целое, что творчество безотчетно выразило. Качество стихотворной ткани — на первом месте, при низком ее качестве все другое превращается в жалкие претензии, но не все им исчерпывается. В этом смысле два величайших русских поэтических имени — Пушкин и Блок, и как бы ни поблекло кое-что из блоковского наследия, казавшегося когда-то головокружительно-прекрасным, — в частности «Двенадцать». — Блок один в наш век Пушкину противостоит и до известной степени ему отвечает и его продолжает. Добавлю, что многие стихи Блока — из «Земли в снегу», из «Ночных часов», из «Седого утра» — дают ему на это и сами по себе, т. е. как стихи, неоспоримое право. Поэта надо судить не но срывам, и даже не по среднему его уровню, а по лучшему, что он дал, — и тут Блок за себя постоит. Несравненны у него интонации, — в «Поздней осенью из гавани…», например! Блок был гением интонации, как до него Лермонтов, и незабываемы у него эти его вопросы, почти дословно повторяющиеся, «за сердце хватающие», будто проникнутые чувством круговой поруки перед тем, что может с человеком случиться. «В самом чистом, самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?», «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?»…
Блок — это Россия, судьба и лицо России, как судьбой и лицом был Пушкин. Именно в этом их особенность, то, что их обоих выделяет и возвышает. Можно ли сказать, что пушкинские стихи, насильственно выхваченные из общего понятия «Пушкин», лучше тютчевских? Нет, едва ли. Ответ самый правильный в том, что под непосредственным впечатлением некоторых пушкинских стихотворений кажется, что именно они в нашей литературе — лучшие, а под непосредственным впечатлением от Тютчева тоже кажется, что никто ни до, ни после него так по-русски не писал. «Эти бедные селенья…» — одна из самых удивительных и сияющих драгоценностей нашей поэзии, как и «Последняя любовь», как и другое у Тютчева, — но так же, как и «Жил на свете…», или «Когда для смертного…» [1]
А все-таки, все-таки Тютчев — не Пушкин. Каждая вновь найденная записка Пушкина, два-три неизвестных слова его — событие, между тем как тютчевский архив не весь еще и разобран, а если при разборе и вызовет интерес, то не вызовет волнения, только с одним Пушкиным и связанного. Кто мог пройти по Мойке мимо дома, где он умер, не ощутив в сотый раз того же давно знакомого волнения? Кому из петербуржцев Петербург не был дорог хотя бы отчасти потому, что это пушкинский город, в «строгом, стройном виде» своем на Пушкина похожий? Нет, долго было бы говорить обо всем этом… 29 января 1837 года — роковая дата не только в русской литературе, а шире, в истории России, и чем больше о дне этом думаешь, тем последствия его представляются неисчислимее. Пушкин как будто держал Россию в руках, удерживал ее, и когда его не стало, все начало катиться под гору. Идеализировать пушкинский век, каков он был в реальности, со всем, что было в нем жестокого и темного, бессмысленно. Но в пушкинском творчестве было обещание, было предвидение России, какой она в намеченных им линиях могла бы стать, и с его смертью все это исчезло, линии оказались искривлены, видение — или не понято, или сознательно отвергнуто.
Блок слабее, но представлять Россию было дано и ему. Блок — это не только стихи, как и Пушкин — это не только стихи, а голос и тема, радость и мука, подъем и падение, свобода и гибель, — не знаю, как сказать об этом яснее. Блок — второй вслед за Пушкиным корифей русской поэзии. Есть блоковский мир, как есть пушкинский мир. Есть царство Блока, и сознают они это или нет, все новейшие русские поэты — его подданные, даже если иные среди них и становятся подданными-бунтовщиками и подданными-отступниками.
Но нет мира мандельштамовского… Невольно останавливаюсь и спрашиваю себя: что же есть?
Мира нет, — что же есть? Есть скорей «разные стихотворения», чем поэзия, как образ бытия, как момент в истории народа и страны, есть только разные, разрозненные стихотворения, — но такие, что при мысли о том, что их, может быть, удалось бы объединить и связать, кружится голова. Есть куски поэзии, осколки, тяжелые обломки ее, похожие на куски золота, есть отдельные строчки, — но такие, каких в наш век не было ни у одного из русских поэтов, ни у Блока, ни у Анненского. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» — такой музыки не было ни у кого, едва ли не со времени Тютчева, и что ни вспомнишь, все рядом кажется жилковатым. Когда-то, помню. Ахматова говорила, после одного из собрании «Цеха»: «сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!»
У меня лично был другой опыт, и я хочу им поделиться: может быть, кто-нибудь повторит и проверит его. Был в Париже литературный вечер, на котором мне пришлось говорить сначала о Мандельштаме, потом о Пастернаке, с соответствующими иллюстрациями, т. е. чтением их стихов.
Не могу сказать, по совести, чтобы я очень любил поэзию Пастернака, но что это поэт прирожденный, чрезвычайно даровитый и в своей даровитости, в своем творческом богатстве подкупающе расточительный, этого отрицать нельзя (Вяч. Иванов заметил об Анненском, или точнее — о его последователях — «скупая нищета», жестоко, но верно. Но именно из этой «скупой нищеты» ведь и вышли все эти перебои, замедления, мерцания, скрипы, вздохи, все то, что создало единственный в своем роде, неповторимый «комплекс» поэзии Анненского: полная противоположность Крезу-Пастернаку, однако не только Крезу, а и дитяти Пастернаку, «учащейся молодежи»-Пастернаку, «вечному студенту»-Пастернаку)! [2]