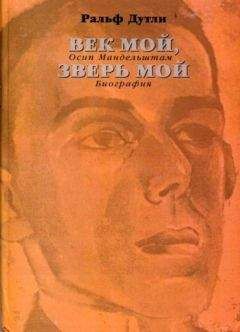В течение нескольких лет, от 1912 до 1918 или 19 года, когда он уехал из Петербурга, я довольно часто с ним встречался, — в университете, где романо-германский семинарии еще оставался лабораторией и штаб-квартирой акмеизма, в «Бродячей собаке», в частных домах. Он бывал у меня, хотя никогда не звал меня к себе, — и насколько помню, не бывал у него на дому никто. Вероятно, были условия, этому препятствовавшие.
Несмотря на сравнительно небольшую разницу в возрасте, я никак не могу сказать, что был действительно его «товарищем». Никогда я не перешел с ним на «ты». Он с первой встречи показался мне человеком настолько редким, да и престиж его как поэта был в нашей тогдашней среде настолько высок, что быть с ним «на дружеской ноге», как Хлестаков с Пушкиным, я не решался, и должен сказать откровенно, слегка стеснялся его, чуть-чуть робел в его присутствии, особенно в начале знакомства, хотя оснований к этому он не давал ни малейших: в самом деле, трудно было бы назвать человека, который менее «важничал» бы и держался бы с большей простотой, естественностью и непринужденностью.
Разговаривать с ним бывало не всегда легко, и разговор сколько-нибудь длительный превращался в своего рода умственное испытание, — потому что следить за ходом его мысли нельзя было без усилия.
Обыкновенно люди говорят, соблюдая связь логических посылок с заключениями, обосновывая выводы, постепенно переходя от одного суждения к другому — и переводя за собой слушателя. Мандельштам в разговоре логику отнюдь не отбрасывал, но ему казалось, что звенья между высказываемыми положениями ясны собеседнику так же, как ему самому, и он их пропускал. Он оказывал собеседнику доверие, поднимая его до себя, считая, что всякого рода «значит», «ибо», «следовательно» лишь загромождают речь и что без них можно обойтись: не «а есть б, б есть с, следовательно, а есть с», а прямо «а есть с», как нечто самоочевидное. Но не всегда это бывало очевидно тому, к кому он обращался, во всяком случае, не так мгновенно очевидно, как ему самому, и потому разговор с Мандельштамом с глазу на глаз неизменно требовал напряжения, — тем более что шутки, остроты, пародии, экспромты, смешки, прочно в мандельштамовской посмертной «легенде» утвердившиеся, все это расцветало пышным цветом лишь на людях или хотя бы в обществе двух-трех приятелей. Вдвоем, с глазу на глаз, шутить как-то неловко, даже глупо: всякий, вероятно, это испытывал и знает это по опыту. И при встречах одиночных от Мандельштама, будто бы всегда «давившегося смехом», не оставалось ничего.
Не колеблясь, я скажу, что от этих встреч осталось у меня воспоминание неизгладимое, ослепительное, и что по умственному блеску и умственной оригинальности, по качеству, по уровню этой оригинальности, Мандельштам был одним из двух самых исключительных поэтических натур, каких пришлось мне знать. Вторым был Борис Поплавский, метеор эмигрантской литературы, несчастный, гениально вдохновенный русский мальчик, наш Рембо. Одаренность Поплавского была, пожалуй, даже щедрее мандельштамовской, хотя у него отсутствовала мандельштамовская игольчатая острота и точность в суждениях. Она неслась потоком, захлестывала, увлекала, она то приводила к легковесным, наспех выдуманным декларациям, то к догадкам, которые действительно, взвешивая слова, хотелось определить как прозрения. Поплавский был противоречивее, сложнее Мандельштама, было в нем что-то порочное, было, кажется, и двуличие, которое порой от него отталкивало, — но не оттолкнуло бы, нет, если бы предвидеть, как рано оборвется его жизнь! Он не дал и десятой доли того, что в силах был дать, и даже стихи его, при всем их очаровании, все-таки не совсем устоялись, не утряслись, как будто не «просохли». Но до чего это «Божией милостью стихи»! Да и проза тоже, — помнит ли кто-нибудь, например, удивительный рассказ его «Бал», помешенный в «Числах»?
Двуличия в Мандельштаме не было и следа. Наоборот, он привлекал искренностью, непосредственностью. Одно воспоминание, с ним связанное, осталось мне дорого навсегда, — и вовсе не в литературном, не в поэтическом плане, а гораздо шире и больше: в качестве примера, как надо жить, что такое человек.
Было это в первый год после октябрьской революции. Времена были грудные, голодные. У нескольких молодых литераторов явилась мысль о небольшой сделке, — покупке и продаже каких-то книг, — которая могла оказаться довольно прибыльной: подробности я забыл, да они и не имеют значения, помню только, что требовалось разрешение Луначарского. А к Луначарскому у нас был доступ через одного из его секретарей, общего милейшего нашего приятеля, поэта Рюрика Ивнева («Хорошо, что я не семейный, хорошо, что люблю я Русь…»).
Хлопоты тянулись долго. В конце концов стало известно, что ничего добиться нельзя, Луначарский разрешения не дает. Не дает так не дает, проживем как-нибудь и без него!
Однажды, вскоре после этого, я пришел вечером в «Привал комедиантов», где собирались бывшие завсегдатаи «Бродячей собаки», в те годы уже закрытой. Пришел, очевидно, рано, потому, что было пусто, — никого, кроме Мандельштама. Мы сели у огромного, но холодного, безнадежно черного камина, стали разговаривать — о стихах вообще, а потом о Пушкине. Разговор был восклицательный: помните это? а как хорошо-то! — и так далее. Вдруг Мандельштам встал, нервно провел рукой по лбу и сказал:
— Нет, это невозможно… Мы с вами говорим о Пушкине, а я вас обманываю! …Я должен вам это сказать: я вас обманываю!
Оказалось, Луначарский разрешение дал, дело давно сделано, доход — какие-то гроши — поделен. Но зачем делить на пять, если можно разделить на четыре? Этот убедительный арифметический расчет и был причиной того, что мне сообщили о неудаче предприятия.
Повторяю, для меня это осталось одним из самых дорогих воспоминаний о Мандельштаме. Обманывать, конечно, нехорошо, но кто из нас живет, делая только то, что хорошо? Проверяя себя, вполне допускаю, что, если бы «в компанию» взяли меня, а исключили бы другого, я бы поддался уговорам и согласился бы. Но тогда не надо говорить о Пушкине, говорить в том тоне и духе, как говорили мы в тот вечер, — и конечно не о Пушкине только, а ни о чем, что любишь, чему ищешь ответного отклика: иначе — все ложь, лицемерие, мерзость, нет никакой поэзии, незачем быть поэзии, и Мандельштам это почувствовал! По Державину — «всякий человек есть ложь». Может быть. Но истинный образ человеческий проявляется в потребности преодоления лжи, и за одну минуту такого преодоления можно человеку простить обман в тысячу раз худший, чем тот, случайный и ничтожный, которого не вынес Мандельштам.
* * *
Перечитываю «Шум времени», «Египетскую марку» и тщетно стараюсь найти в прозе Мандельштама то, что так неотразимо в его стихах. Нет, книгу лучше отложить. Цветисто и чопорно.