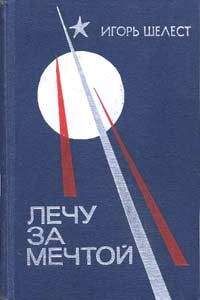Борис ШТИВЕЛЬМАНМой друг Виктор Шварцман Он значил для меня так много...
Мы выросли в одном городе, пару лет учились в одной школе, в одном классе. Наши семьи были похожи — дружелюбные, хлебнувшие горя еврейские семьи. Даже профессионально — инженер-папа, медик-мама. Даже по происхождению — из Бессарабии, из левой еврейской молодежи...
И была попытка дружить. Но куда там т этот серьезный мальчик скорее раздражал, чем восхищал меня.
О чем говорят мальчики в школе? С Викой мы говорили о магнитном поле, или об электрическом. Было что-то нечеловеческое в том упрямстве, с которым этот ребенок возвращался к волновавшим его научным вопросам.
Вероятно, были и другие разговоры, конечно были! Но мне запомнилось это. Вот я иду — нет, лечу, плыву — по нашему забытому раю, по старым, убогим, еврейским Черновицам. Мне лет четырнадцать. Голова полна ветром, девушками, какими-то проигранными деньгами... По улице Моцарта (или Бетховена?), вдоль Филармонии. «Слушай, Штиф! Есть такая задача...»
И все. Сила его доминанты была такой, что уже и я мог несколько дней кряду искать ответ, решение...
Запомнилась неожиданная встреча у доски объявлений Московского физфака. Две недели назад окончена школа. Мы поступаем на физику — науку наук. Вчера написана математика письменная. Разыскивая свои фамилии на доске, обмениваемся предположениями. Мне кажется, что у меня «четверка» (в душе я надеюсь на большее!). Мрачный Шварцман предполагает, что у него «трояк». Мелькает мысль, что не тупая зубрежка, а звезда, удача, напор решают дело. Хочется ободрить бедолагу.
Действительность опрокидывается холодным душем. У меня «два», у него «пять». Ошибкой — по крайней мере, несправедливостью! — казалось и то, и другое. Я пробовал апеллировать...
Кстати, эта «пятерка» — одна из немногих в многотысячном потоке абитуриентов физфака — сыграла удивительную штуку в дальнейшем поступлении Вики. На математике устной, экзаменатор — университетский педагог по прозвищу «Кривой» — сосредоточенно валил еврейского юношу, следуя инструкциям. Его, по-видимому, не смущало то, что абитуриент решает подряд задачи все возрастающей сложности.
Найдя, наконец, задачу, с которой экзаменующийся не справился — двумя годами позже Шварцман и Бернштейн доказали, что она не имеет решения! — усталый экзаменатор ставит «два» и ведет парня к столу приемной комиссии. Там он обнаруживает, что письменную работу Вика написал на «5». Опасаясь скандала — а о нем и не помышлял измученный абитуриент! — ставит «три». Затем был многочасовой — на выживание — экзамен по устной физике.
Потом я не раз заезжал к нему в Дом студента. Что-то тянуло к этому колючему надменному очкарику. Зависть? Сострадание? Чувство родства? Он жил в одиночке, мой друг, в зоне «Б» — так музыкально назывались студенческие общаги МГУ. Дверь в его комнату и внешняя дверь блока всегда были заперты — он старательно экранировался от внешнего мира. Он удивительно много работал. Он казался совсем недоступным.
Второй виток нашей дружбы начинался в 1969 году. Мы оба окончили университет, оба были рано женаты. Шварцман учился в престижнейшей московской аспирантуре. Я поселился в курортном городке у моря.
Виктор приехал неожиданно и не один. С ним была Нина — наша землячка, одноклассница Вики, привлекательная, чуть экзальтированная молодая женщина. Была середина лета. Утром следующего дня я уезжал, а эту ночь мы всю до рассвета бродили по пляжам, купались с пирсов, острили; казалось, мы все влюблены друг в друга. Я не узнавал Вику. Он не сводил с Нины восторженных глаз. Смеялся самым дурацким моим шуткам, восхищался моим глубокомыслием. Мы читали стихи и пытались угадывать имена деревьев. Я понял, как он беззащитен.
Потом мы встречались все чаще и чаще. После окончания аспирантуры Вика поселился в строящейся обсерватории, в горах, звал и меня туда. Наша дружба набирала вес, объем, число измерений, а для Шварцмана это непременно означало рост взаимодействия. Его тетрадки (да и мои!) полны записями типа «Учить Борю...» — и далее длинный список, или «Учиться у Бори...» и далее снова список. Я не был здесь исключением; такого рода записи — или даже специальные тетради, или целые папки — заводились для всех сколько-нибудь существенных партнеров. А какие идеи там содержались! В одной из разработок мне предлагалось притвориться, а лучше на самом деле стать чудиком, свихнувшимся на астрономии; прилагалась программа; сохранилась моя версия этой программы. В другой планировалось наше совместное (многомесячное? многолетнее?) странствование по стране, причем, в этом путешествии Вике выделялась роль «ученика и слуги» (он так и подписывал некоторое время свои бумаги), а мне некоего Буддийского мэтра.
Впрочем, эти бумаги относятся к более позднему времени, когда на смену естественному озорству молодых, полных энергии парней, при шло ощущение усталости, растерянности, распада. Тогда же, в начале семидесятых, жизнь Вики вдруг круто переменилась. Распалась семья, Нина уехала в Харьков. Мы часто встречались, проводили вместе немало времени, подолгу беседовали — но Шварцман никогда не рассказывал мне о том, что значила для него эта первая в жизни драма. Сегодня я убежден, что он так и не сумел пережить ее, что она терзала pro всю оставшуюся жизнь, наслаиваясь, усугубляясь...
Но тогда глаза мои застил свет Витиных успехов. Законченный неудачник в науке, антипрофессионал, я с тихой грустью наблюдал то, что мне казалось верными признаками взлета. Поток публикаций, признание мировой научной общественности, положение в САО... Блистательные идеи, превосходные, глубокие, доступные лекции о науке, которыми он одарял нас во время своих ежегодных приездов — все это вызывало сложную смесь чувств от обожания до печали. И даже его одиночество — на фоне мещанского благополучия моей семьи. И этот удивительный поток девочек, женщин, поклонниц. И эта его потрясающая квартира, рядом с нашим убогим бытом и ежеминутной борьбой за жизнь. Зависти не было. Но было некое ослепление. Непонимание очевидных вещей. Вначале более робкие, более туманные, а потом все более открытые, более грозные жалобы Вики, казались мне кокетством. Недостойным мужчины скулением. Бесстыдным хри-старадничанием богача...
Как поздно я осознал, что, если не вся наша дружба, то большая ее часть, была просто мольбой о помощи. Мольбой о помощи погибающего человека. Временами сильного — сильнее всех вокруг! — временами слабого человека. Успешного или терпящего поражение в делах. Здорового, больного, любимого, осуждаемого. Но всегда — с очень ранних лет, вероятно, ощущающего свою смерть. Не справляющегося со своей психикой, не справляющегося со своей программой. Ведь он был как Зомби!