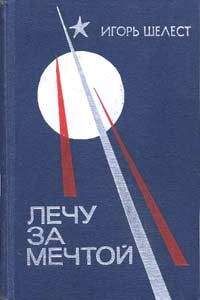Я набрал Викин номер. На том конце провода радостно вскрикнули: «Боря!» После этого полчаса я зсе бросал и бросал монетки — Шварцман рассказывал о том, как он плох. Физически, душевно, морально, творчески... Хотелось плакать, слушая этот длинный и несправедливый самооговор, но что-то необратимо изменилось в наших отношениях тогда, в начале лета, сердечность казалась неуместной и, в конце концов, я гаркнул: «Сейчас же приезжай ко мне!»
Вика приехал поездом той же ночью. Казалось, он был в хорошей форме. Мы проговорили до рассвета. Большую часть времени Вика рассказывал об июньских симпозиумах в Венгрии. Это был первый выезд за рубеж за много лет. А ведь у него хранились приглашения лучших университетов мира. Для чтения лекций, для исследовательской работы, «на любой срок, на любых условиях» — так там и было сказано. Обсерватория неоднократно пыталась послать Шварцмана, за него хлопотали влиятельные академики — но все вязло, как в вате. Зарубежным коллегам посылались телеграммы о его нездоровье или занятости — как, впрочем, к в случае сотен других «невыездных». Вика рассказывал, что его не раз вызывали в местное КГБ, пытались, если не завербовать, то хотя бы снюхаться, обещали (в случае успеха) свободный выезд.
И вот в середине июня 87 г. Венгрия организовала два идуших один за другим международных симпозиума — по космологии и проблеме SETI. Шварцман был приглашен на оба, но до последнего момента не было известно, на какой из двух будет отпущен; считалось, что два разрешения получены быть не могут. Не будет преувеличением сказать, что в тяжелом состоянии Вики этой весной существенную роль сыграли бессовестные проволочки властей. Ведь нужно было готовиться к докладам!
Этой ночью в Тернополе я узнал, что чуть ли не в день отъезда оказалось, что ему разрешено участвовать в обоих мероприятиях. Что совещания происходили в необыкновенно красивом уголке Венгрии. И что представительная советская делегация выглядела кучкой провинциалов на фоне раскованных, молодых, красивых (так, во всяком случае, казалось Вике) западных ученых. «Мы выпали из мирового научного процесса, — скорбно рассказывал Вика. — У нас по-прежнему немало идей, но технология, но аппаратура и, главное, контакты... Симпозиум был венгерским, но казался американским. Значительная часть участников — американцы, большинство остальных или постоянно работают в Штатах, или регулярно бывают там, а мы... А наш английский — даже неотразимый Я.Б. говорил так, что было неловко слушать».
Огромные трудности с языком были и у Вити (хотя, по нашим понятиям, его английский был неплох), но обаяние его идей было столь велико, что несколько молодых американцев не отходили от него все время, пока длился симпозиум, помогли подготовить доклад и иллюстративный материал. В итоге доклад по SETI был встречен аплодисментами - явление нечастое на научных встречах.
Ровно через месяц, в ночь на первое сентября, после похорон, в кухню Викиной квартиры зашел И.Д. Караченцев. Мы — Нина А., несколько друзей, коллег Вики — сидели кружком, пили крепчайший чай. Игорь Дмитриевич рассказал, что, принимая участие в первом симпозиуме — по космологии, жил в одном номере с Викой. Что популярность Шварцмана была необычайно высока, свободное от работы время было полностью расписано, возвращался в номер он всегда глубоко за полночь.
Да и из Витиных рассказов получалось, что относятся к его научной деятельности на Западе более чем серьезно. Совсем устало сказал что-то вроде того, что, если бы уехал в свое время в Америку, все, возможно, сложилось бы иначе. А сейчас он, собственно, не видит выхода... Я снова взорвался (все же сказалась командная система отношений на шабашке). Рискуя разбудить родных, стал убеждать, уговаривать, сейчас же уехать в Израиль или США — ведь приглашения оставались в силе! Обещал взять на себя все организационные трудности, помогать ему там, если захочет... «Поздно, Боренька», как-то устало говорил Витя на все мои наскоки. Или: «Нет сил, Боренька». Вдруг он как-то странно спросил — может быть, в ответ на мое идиотское бахвальство по поводу шабашки: «Скажи, Боренька, а тебя еще хоть немного интересует астрономия?» Я достойно отвечал, что очень интересует, так же, как и раньше интересовала, и что я по-прежнему хочу... Я не договорил. «Так же...» Разочарованно перебил меня Витя, теряя интерес к разговору, уходя куда-то в себя, вглубь. Мне показалось, что лопнула еще одна нитка.
Утром я потерпел еще одну неудачу. Я попытался уговорить его поехать со мной к себе домой, к морю. Вика отказался. Я уехал обиженным и сердитым. Больше мы не виделись.
Несколько слов в заключение затянувшегося рассказа. Первая из телеграмм о его смерти (всего их было отправлено мне более десятка в разные колхозы Литвы) застала меня на кровле. Плохо помню, как спускался, как собирался, как добывал билеты (ведь конец августа), как летел в Минводы. Хорошо помню, что мозг свербил вопрос: жива ли Ревекка Моисеевна?
Любопытно, что и оглушенное, загнанное в тупик сознание способно искать более «благополучные» варианты. Думалось: вероятно, она умерла, и Вика почувствовал себя свободным
Меня еще раз пронзило: каким должно было быть страдание? И какой должна была быть слепота, ослепленность своими проблемами, чтобы не заметить, не осознать? Все же мало в мире понимания и любви.
Я убежден, что мог бы сохранить ему жизнь.
дек. 90 - янв. 91