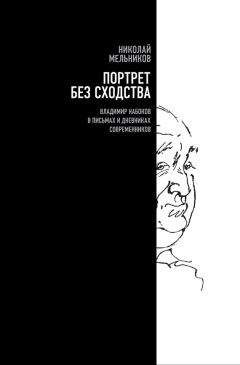Петр Бицилли – Марку Вишняку, начало декабря 1938
<…> В восхищении от «Вальса» сиринского. Вещь глубочайшая по замыслу и оригинальнейшая. <…>
Борис Зайцев – Ивану Бунину, 11 декабря 1938
<…> Сестра моя Надя недавно заявила мне тихим своим и покорным голосом: «Не нравится мне Сирин. Кривляка». И замолчала, опустила глаза. Сирин читал. Говорят, читал хорошо (я не был). В общем, он провел собою такую линию, «разделительную черту»: евреи все от него в восторге – «прухно» внутреннее их пленяет. Русские (а уж особенно православные) его не любят. «Русский аристократизм для Израиля». На том и порешим. <…>
Михаил Павловский – Вадиму Рудневу, 27 декабря 1938
<…> Очень мне понравилась Ваша статья о Чехословакии. Гораздо меньше – обе статьи – и Бунина, и Алданова – о Куприне. Зато – великолепен – «Дар». Вот уж действительно самое выдающееся произведение нашей эмигрантской литературы. Если памятником ее останется только «Дар», этого будет достаточно. Для меня лично создается тягостный cas de consiense35. В. Сирин предложил мне издать всю книгу, включая 4-ю часть. Не издать такой книги прямо невозможно (когда до сих пор продолжает выходить отдельными книгами всякая ерунда). Но что делать с 4-й частью (которую я сам даже еще не читал, но которой меня пугают решительно со всех сторон)? <…>
Петр Бицилли – Марку Вишняку,
между 11 и 25 февраля 1939
<…> Мои впечатления от февральского № (еще не успел, однако, прочесть всего): в последнем рассказе Сирина нет, как мне кажется, подлинного единства – но, впрочем, может быть, мне еще не удалось расшифровать его до конца? У него ведь все – аллегории. Но все же – изумительно по мастерству речи и чему-то, что захватывает. <…>
Карл Гершельман – Вере Булич, 19 марта 1939
<…> То, что Вы говорите о Сирине, вполне верно. Но все же я его люблю больше Зурова и даже, пожалуй, Бунина – и вот почему. Главное задание писателя все-таки воздействовать на читателя эмоционально. Высшее чувство, которое он может внушить читателю к своему герою, конечно, любовь, восхищение. Так у Льва Толстого любишь всех – до таких, как Долохов или Анатоль Курагин. И поэтому его герои так навсегда и всецело внедряются в читателя. Бунин же (м.б., здесь сказывается влияние французов – у Пруста это качество чрезвычайно сильное) совсем не внушает такого восхищения и не заставляет влюбиться в героя; он не в области чувства, а в области ощущения – необычайно сильная передача осязательно-зрительной стороны мира, но не больше. По линии Бунина старается идти и Зуров в последних вещах («Поле»), а это, по-моему, путь ложный (хотя и очень интересный, как отдельное явление). Сирин же эмоционален. Он, если хочет, может заставить и полюбить (отца в «Даре», Цинцината в «Приглашении на казнь»), большей же частью, конечно, действует не «восхищением», а «отвращением», но это ничего – волнует и затрагивает он больше Зурова…
Иван Бунин – Марии Карамзиной, 29 марта 1939
<…> Сирин все-таки нестерпим – лихач возле ночного кабака, хотя и замечательный <…>.
Нина Берберова – Ивану Бунину, 30 марта 1939
<…> В Париже мало веселых сплетен, а если кто-то с кем-то подрался, то невесело. Видаюсь с Сириным и его сыном (и женой). <…> Живется им трудно и как-то отчаянно. Пишет он «роман призрака» (так он мне сказал). Что-то будет! <…>
Михаил Цетлин – Вадиму Рудневу, 28 июня 1939
<…> Стихи Сирина эффектны, но не стоят его прозы! <…>
Мстислав Добужинский – Александре Толстой,
19 ноября 1939
Многоуважаемая Александра Львовна,
Я сегодня же написал В.В. Набокову. Наведя некоторые справки – я мало еще кого знаю, – но те два лица, у которых я был, очень охотно помогут свести его с издательствами и литературными кругами. На заработки переводами, по-видимому, рассчитывать особенно не приходится, так как сравнительно мало издается переводов литературы, и у издателей есть свои переводчики, там очень большая конкуренция, и проникнуть в эту среду, как мне говорили, трудно. Я думаю, что при том знании языка Владимир Владимирович в конце концов станет писать и по-английски. Думаю также, что его заработками могли бы стать лекции или отдельно, или в каком-либо университете или другом учреждении. При его образованности тем хоть отбавляй, а при этом Владимир Владимирович и неординарный специалист по энтомологии (по сей специальности он окончил Кембридж, может и это пригодиться). Я не могу никак найти Михаила Ивановича Ростовцева. Он, кажется, если я не ошибаюсь, уже хотел что-то сделать для него в университетской области. Владимира Владимировича я знаю с детства, он был одно время моим учеником, когда был мальчиком – мы вспоминали о моих уроках рисования еще недавно в Париже. Я его очень люблю и как писателя, и как совершенно исключительного человека и так бы хотел его приезда и чтобы благополучно он устроился. Спасибо Вам за хорошие слова о моей работе и очень жалею, что не пришлось познакомиться с Вами. Надеюсь, в будущем это будет.
Искренне преданный и уважающий Вас М.Д.
Мстислав Добужинский
Елизавета Кянджунцева – Ирине Кянджунцевой,
18 декабря 1939
<…> Володя заходил на днях. Выглядит ужасно. Саба ему аккуратно теперь выдает по 1000 фр. в месяц (до сих пор получил 4000), но, конечно, ему этого не хватает. Теперь он получил три урока по 20 фр. Итого в неделю 60 фр. К нему приходят ученики. В Америке ему обеспечена кафедра и есть вообще перспективы хорошо устроиться, но сейчас он не может ехать, так как ждет квоты. <…>
Карл Гершельман – Вере Булич, 31 декабря 1939
<…> Сирин меня интересует больше всех других эмигрантских писателей. Он, правда, довольно скользок – иногда съезжает на явную бульварщину, иногда пользуется эффектами дурного тона (напр., конец «Камеры обскура» и самый конец «Дара»). В нем есть что-то от американца-карикатуриста (кажется, его звали Горн) из «Камеры обскура». Он немного шарлатан и любит поморочить голову. Но все же он очень интересен, и сила изобразительности у него очень велика. В конце концов, зачем требовать от человека того, чего он не имеет, а не радоваться тому, что имеет? Сирин, каков он есть, явление очень оригинальное и большое, и этого достаточно. Из его вещей наибольшее впечатление (из читанных мною) произвело на меня «Приглашение на казнь».
Из дневника Якова Полонского, 6 февраля 1940
<…> Про Сирина, который забежал в это время случайно на полчаса, [И.А. Бунин] сказал, отвечая Любе : «Нельзя отрицать его таланта, но все, что он пишет, это впустую, так что я читать его перестал. Не могу, внутренняя пустота». <…>
Из «Литературного дневника» Евгения Гессена,
17 апреля 1940
<…> Перечел «Подвиг» Сирина. Хорошо: а все же Сирин не умен, а культурен: культура оформления чувств. Это – тоже результат ума; даже и есть – ум, да только не свой, а – предшественников. <…>
…28 мая 1940
<…> По-моему, Сирин идет по пути того [же] преступления против искусства, что и Гумилев (страх человеческого). P.S. Не в смысле низменном, а – откровенности: страх не выдержать экзамена, как человек. <…>
Из дневника Христины Кротковой-Франкфурт,
9 июня 1940
На днях была у Сирина, который только что приехал на «Шамплене» из Парижа. Я в свое время хлопотала у Толстой и у Вильчура, чтоб ему помогли приехать, хотя знакома с ним не была, и в свое время его критика моих «Итальянских сонетов» мне не понравилась. Однако на безрыбье и рак – рыба, а человек он безусловно очень талантливый, хотя все писания его мне глубоко несимпатичны, во всем какая-то безжалостность, безлюбовность, бестактное любопытство и механистичность.
Соня Гринберг должна была дать его адрес и телефон. Из-за одного любопытства я бы не пошла, но Литературный фонд просил меня поговорить с Сириным относительно выступления в память Вильчура, а также относительно лекции, за которую бы ему заплатили. И вообще просили войти в контакт и спросить, чем они могут быть полезны. Когда Соня отвечала мне по телефону, Сирин стоял около, и я слышала, как она его сначала спрашивала, он отвечал, а она повторяла его ответ. Мне понравился голос, отчетливый. Голос человека, привыкшего свободно держаться в обществе. Женя сказала потом, что он был вообще очень аристократичен.
Я позвонила наутро и условилась прийти к нему в шесть часов. В этот день была тяжелая жара, у меня болела голова. После урока английского отправилась к Сирину.
Он открыл мне, извиняясь, что принимает меня в халате. С ним были жена и шестилетний сын, славный мальчишка. Я знала в Праге его сестер – Ольгу и Елену. Ольга, взбалмошная, несчастная, с хорошим контральто, очень неудачно была замужем. У Ольги были очень большие голубые глаза, несчастные и простодушные, гладкие темные волосы. Немного дегенеративный тонкий рот, слегка асимметричный подбородок. Вела она себя с доверчивой бестактностью. Сирин рассказал теперь, что она развелась, вышла опять замуж, родила ребенка и мечтала приехать в Париж. Зачем? – Я пойду там в галлиполийское собрание. (Второй муж галлиполиец.)