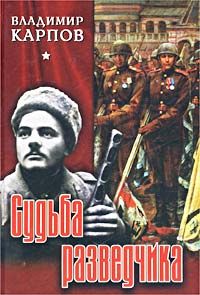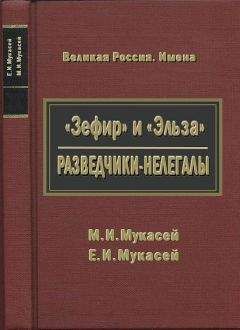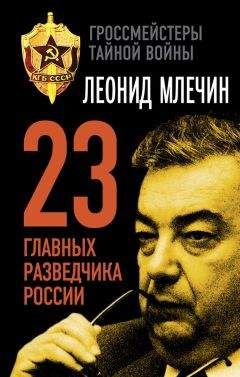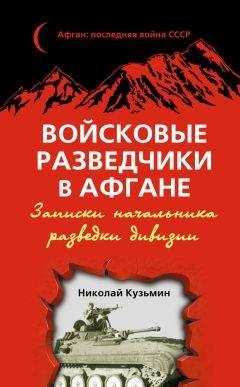Доктора избавляет от этой неприятной процедуры какой-нибудь услужливый похоронщик. Он идет с доктором вдоль выложенных в ряд покойников (специально для доктора и учетчика их в такой лежачий строй выкладывают). Учетчик определяет номер умершего и уточняет его фамилию. Доктор заносит в протокол. А факт смерти фиксирует ломом зек, сопровождающий доктора. Ломом он после легкого взмаха ударяет в грудь трупа, и какие ещё нужны после этого подтверждения смерти? Не надо ни пульс искать, ни трубочку к груди прикладывать. Доктору, конвоиру и учетчику эта процедура удобна: никаких сомнений в факте смерти не может быть. Лом с легким хрустом прошибает грудь покойника до самой земли.
Говорят, бывали случаи — замахнется «фиксатор» ломом, а труп глаза раскрывал, просто доходяга в беспамятстве был, когда его волокли в сани и везли сюда, на кладбище. Ну что с ним делать? Назад везти? Это же сколько мороки! На вахте уже зафиксировали: столько-то живых на работу ушло, столько-то мертвых на кладбище вывезено. А теперь что же получится: один или два покойника назад в зону вернулись. Это что же за порядки на лагпункте — живого от мертвого отличить не могут? И не было ли под видом таких покойников беглецов? Нет, такие сомнения и подозрения начальство не устраивают… И лом на замахе не замирает. Раскрывшихся глаз не замечает ни доктор, ни учетчик. Почти неслышно хрустнет грудная клетка, и лом ударит о землю. И факт смерти, как говорится, налицо. А совесть у всех чиста — документ оформлен, цифры в лагерной канцелярии сойдутся. Ну а насчет того, что вроде бы труп открыл глаза, никто не знает. А если и знает, кого это колышет? Подумаешь, ещё один доходяга Богу душу отдал, обычное дело. Сколько их и до, и после этого в землю полегло! Может быть, для него же лучше сделали, избавили от мучений — днем раньше, днем позже…
Печальная такая участь ожидала и Ромашкина. От его былой боксерской прочности почти ничего не осталось. Следователи помесили его сапогами основательно. Почки, да и другие органы внутри побаливали. В общем, потихоньку доходил Ромашкин.
Резко переменил существование Василия его величество случай.
Все началось с того, что Ромашкин спас жизнь Серому. Тому Серому, который держал в руках весь лагерь, пожалуй, крепче охраны, он мог одним словом решить судьбу любого зека. Он был пахан. Провинившихся или по какому-то поводу не угодных убивал не сам. А покуривая самокрутку из махорки в окружении своих приближенных, мог сказать: «Надо убрать такого-то». И этого достаточно. Кто «замочит» приговоренного, неважно. Обычно никто не знал исполнителя. Догадывались. Но никогда о своей догадке не говорили. Мокрое дело нешуточное, за такое вышку дают. Догадливого, если он не свой, тоже могли убрать. Серый, конечно, знал, кто замочил, и отмечал его преданность какими-то привилегиями.
Василий был далек от шайки приближенных к Серому. До этого случая пахан, наверное, не знал о его существовании. Василий — простой работяга, или, как их звали блатные, баклан. Да ещё и статья у него — политическая.
В тот день зеки пришли с работы, как всегда, усталые, злые. Лесоповал от темна до темна на морозе. В бараке после черпака баланды повалились на нары, не снимая телогреек и обувки. Постели не испачкаешь: ни матрасов, ни одеял нет, спали на голых досках,
Нары двухъярусные. Место Ромашкина на верхнем этаже, там теплее.
Внизу, в проходе между нарами, стоял железный бак с кружкой, прикрепленной к бачку цепью. В баке хвойный настой. Обычные сосновые и еловые веточки, залитые кипятком. В лагере гуляла цинга. Чтобы как-то унять ее, делали этот хвойный настой: терпкий, горький, пахнущий дегтем. Противное пойло, не все его пили. Ромашкин пил. Цинга поселилась в нем уже довольно прочно.
Хлебнув целительного пойла, Ромашкин забрался на второй ярус нар, снял бушлат. Под бушлатом у него ещё телогрейка. Снял и ее. Обычно телогрейку стелил на нары, а бушлатом накрывался. Тело, задубевшее за долгий день на морозе, расслабилось, охватывала теплая истома. Горячая баланда, которую проглотил по возвращении в зону, грела изнутри и опьяняла, разливая слабость по всему телу.
Наверное, и в этот вечер он мгновенно заснул бы, как это бывало прежде. Но вдруг у бачка с хвойным настоем произошел скандал. Василию сверху хорошо было видно все, что происходило внизу. Двое узбеков (Василий знал их как обитателей своего барака) пили настой хвои. Вернее, один — пожилой — пил, а другой, моложе, усатый, ждал, когда он передаст ему кружку. В это время вошел в барак и подошел хлебнуть хвои Волков. Здоровый, грудастый, плечистый, с перебитым носом, жесткие волосы с обильной сединой, красное с мороза лицо. Глядя на его перебитый нос и несколько шрамов, любой мог безошибочно определить — уголовник. А кличку Серый, как узнал позднее Ромашкин, ему дали не по его фамилии — Волков, фамилий у него было немало. Волков — по последней судимости. Кличка эта с ним шла из молодости. Его так прозвали за не очень большую сообразительность, мозги у него негибкие были — грабил без какой-либо изобретательности, нахрапом. Одним словом, был серый по способностям. Так его определили старые воры того времени. Но с годами накопились судимости, рос авторитет. И вот теперь он вор в законе — пахан на весь этот лагпункт. Он, конечно же, не мог ждать, пока будут распивать настои какие-то узбеки.
— Ну, хватит, — коротко сказал Серый и выхватил кружку из рук пожилого узбека, облив его при этом выплеснувшимися остатками настоя.
Пахан склонился к крану, чтобы нацедить отвар, а в этот миг пожилой узбек выхватил из-за голенища нож и ударил этим ножом обидчика почему-то по голове.
Никогда Василий не видел прежде, чтобы глаза сверкали натуральным огнем, как у того старика узбека. Он, видно, был очень вспыльчивый человек. От обиды просто потерял способность здраво мыслить и в крайнем остервенении стал бить ножом по голове Серого. А может быть, он бил по голове потому, что у склонившегося Серого именно голова как раз была под рукой.
Волков вскинулся, завопил:
— Ты что?!
А узбек все кидался на него, целился и бил ножом в голову. Серый пятился, отмахивался голыми руками. Раз он ухватил нож за лезвие. А узбек, рванув нож, располосовал ладонь Серого. Кровь лилась из ран на голове, брызгала из почти развалившейся пополам кисти. А узбек замахнулся ножом для очередного удара, и кто знает, куда бы на этот раз он засадил свой нож.
Вот тут Василий и прыгнул сверху на того узбека. Вид хлещущей крови, сверкающий нож, явно гибнущий человек — все это бросило его с нар на руку с занесенным ножом. Он не успел ни о чем подумать. Схватил на лету руку узбека с ножом и вместе с ним рухнул на пол. Рука старика была сухонькая, но крепкая. Ромашкин вывернул ее, и нож выскользнул на пол. Кто-то подхватил и спрятал его. Серый, облитый кровью, стоял в полной растерянности. Его приближенные прижимали тряпки к ранам на голове, старались забинтовать поврежденную руку.