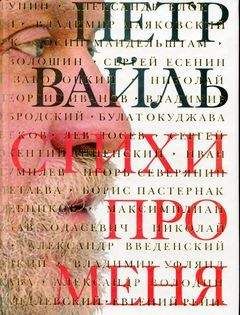Набоков под конец жизни написал: "Как любил я стихи Гумилева! / Перечитывать их не могу". Сказано точно и справедливо, но первая набоковская строчка важнее второй.
Игорь Северянин 1887-1941
Кэнзели
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...
Но кого же в любовники! и найдется ли пара Вам?
Ножки плэдом укутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —
Шумным платьем муаровым,шумнымплатьеммуаровым!..
1911
Очередной культурный десант нашего полкового ансамбля самодеятельности высадился в клубе пригородного завода "Ригахиммаш". После того как ударникам вручили грамоты, солист Рафик Галимов исполнил нужный набор комсомольских песен, я прочел неизменного Симонова, Юрка Подниекс сфотографировал передовиков, заводское начальство с политотдельским капитаном Гартунгом ушло в буфет, а наш оркестр заиграл танцевальную музыку — зал до последнего уголка заполнила привычная смесь дыма, мата, пьяни, ожидания драки. Тут на сцену вышел Слава Сакраманта. Пары остановились. На Славе был приталенный пиджак из лилового плюша, кремовая рубашка с воротником-жабо, крупная розовая брошь, белые туфли. Слава кивнул пианисту Олегу Молокоедову и начал: "В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом..."
Музыка играла, Слава пел, пары стояли. На тихом проигрыше после "меха ягуарового" кто- то громко и отчетливо выразил настроение коллектива: "Ну, бля!" И сразу несколько человек полезли на сцену убивать певца. Наши оркестранты, все с доармейским кабацким опытом, уже стояли у рампы с намотанными на руки солдатскими ремнями с бляхой. Абордаж отхлынул. Мы с Подниексом, бросив новые мимолетные привязанности, пробивались к сцене, снимая ремни на ходу. Из зала примирительно кричали: "Ребята, мы ж не к вам, вы нормально... Этого гнать! Чего этот?" Сакраманта не произносил ни слова, потел и крупно дрожал. Мы вывели его черным ходом на улицу, поймали машину, усадили. Рафик Галимов на ходу утешал как мог: "Не расстраивайся, Слава, в Казани тебя бы тоже обязательно побили".
Слава Сакраманта создан был не для военного поприща, а для звуков сладких. В армию он попал неизвестно почему, в строю отвечал вместо "я" — "я вас слушаю", миску в столовой брал двумя пальцами, оживлялся только в бане. Прослужив так два месяца, был комиссован вчистую. Мы стояли в курилке, когда туда зашли несколько человек из хозроты. Серега Ерычев из Альметьевска громко сплюнул, огляделся и сказал: "Ну, всё, осень ушла в пизду". Сакраманта ойкнул, упал, был отнесен в медчасть, потом отправлен в госпиталь и ряды Советской армии покинул с белым билетом. Однако мы успели подружиться, он уже начинал петь милым тенорком в полковом оркестре бывшего вильнюсского джазмена Олега Молокоедова и после дембеля иногда приезжал на КПП, приносил конфеты, а как-то вызвался с нами выступить — это и оказался "Ригахиммаш".
После я его видал всего однажды. Слава, в широких белых джинсах и желтой рубахе, бежал в Дзинтари по улице Иомас, крича высокому мужчине: "Скорее же, Мальвина, мы опаздываем!"
Для нас с Подниексом Северянин был не чужой, а "В шумном платье" мы знали наизусть. "Мы" — это значит, что Подниекс хотел научиться говорить по-русски без акцента, видимо, тогда уже предполагая, что сделает всесоюзную кинокарьеру и снимет суперхит перестройки "Легко ли быть молодым?". С этой целью я наговаривал на пленку в радиорубке километры стихов, а Юрка их зазубривал на слух. Северянин у нас проходил по высшей категории сложности, уже после проработки Есенина и Пушкина. И с родным-то русским непросто освоить "По аллее олуненной вы проходите морево". Одни названия сборников чего стоят: "Качалка грёзэрки", "Поэзоантракт", "Вервэна", "Миррэлия". Знание русского не обязательно.
Редко бывает так точно известна дата начала писательской славы. 12 января 1910 года Лев Толстой случайно прочел стихотворение "Хабанера II". Безобидные, в сущности, строчки "Вонзите штопор в упругость пробки, — / И взоры женщин не будут робки!.." показались Толстому квинтэссенцией новой поэзии и привели в бешенство. Бешенство такого ньюсмейкера — общественное событие, российские СМИ широко откликнулись. Литературный процесс Северянина пошел.
Интеллигентные современники его презирали — как Чарскую, как потом Асадова. Современники со вкусом растерянно недоумевали. С одной стороны, "неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества", с другой — "завидно чистая, свободно лившаяся поэтическая дикция" (Пастернак). Рядом: "Чудовищные неологизмы... Не чувствуя законов русского языка... Видит красоту в образе "галантерейности"..." — и "Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении" (Мандельштам). В общем, получается по его, по-северянински, как он и обещает: "Я — соловей, и, кроме песен, / Нет пользы от меня иной. / Я так бессмысленно чудесен, / Что Смысл склонился предо мной!"
Меня с самого первого чтения Северянина занимал вопрос: он это всерьез? Про фетэрку и резервэрку, чтоб ошедеврить и оперлить? И только однажды прочел о том, что все-таки не очень. Конечно, нельзя принимать за свидетельство его собственную декларацию "Ирония — вот мой канон": мало ли было у него деклараций, да и канонов. Но вот близкий друг Северянина переводчик Георгий Шенгели (именно ему тот слал стихи из Эстонии в 30-е, все надеясь опубликоваться в советской России; Шенгели хлопотал, но тщетно) говорил: "Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, — это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи — сплошное издевательство над всеми, и всем, и над собой... Игорь каждого видел насквозь... и всегда чувствовал себя умнее собеседника — но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения". Тем больше литературной чести Северянину: не Пиросмани салонной разновидности, а сознательный умелец-виртуоз.