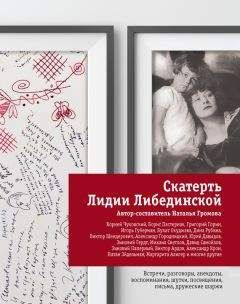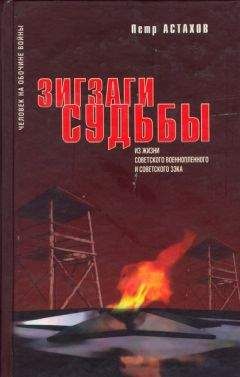Спустя годы я сидела на кухне Лидии Борисовны и записывала подробности той второй встречи на магнитофон.
Интересны были именно мелкие детали, которые не попали в «Зеленую лампу». Девушка, бегущая с дежурства, долгий трамвай, в сторону Речного вокзала, по сторонам улиц — окна, заклеенные крест-накрест полосками из бумаги. Люди на улицах с перевязанными бечевками чемоданами, мешками, схваченные ремнями тюки. Все куда-то едут или что-то ищут. Сосредоточенные лица.
Каким странным это ни покажется, Лида Толстая на этом мрачном полотне являла фигуру прочную и уверенную. От нее исходил гормон счастья, внушающий всем окружающим, что в конечном счете все будет хорошо, что беда пройдет и наступят лучшие времена. Именно поэтому ее взял с собой в порт Лев Бруни, а Цветаева скажет ей на прощание: «Жаль, что вы не едете с нами…»
Н.Г.: Скажите, Лидия Борисовна, как вы оказались на Речном вокзале? Что вас заставило туда поехать?
Л.Б.: Меня Лев Александрович туда потащил. <…> Почему я стала работать в госпитале? Там лежал Ваня Бруни, очень тяжело раненный. Я за ним ухаживала, но просто так там нельзя было находиться все время, я стала тоже там работать, бесплатно. Там же сдавала кровь. Мама с бабушкой и дочкой были на даче во Внукове. А Лев Александрович приходил каждый день, навещал сына. Нины Константиновны не было, она была в Крыму с двумя детьми, она приехала только в октябре, когда Лев Александрович достал для нее пропуск. Он мне сказал, когда я была в госпитале: «Завтра будем провожать Цветаеву, поедем со мной». Я приехала к нему. Обычно, когда я выходила из госпиталя, то не шла домой на Воротниковский, а ехала на Полянку. Я уж не помню, в который час это было, знаю только, что переменила дежурство, чтобы освободиться днем. Я переночевала на Полянке, и мы, позавтракав с Львом Александровичем, сели на 25-й трамвай, который ходил к нам в Воротниковский, на Дмитровку. Он останавливался прямо под их окнами, они жили в четвертом доме на пятом этаже. Мы сели на трамвай, долго пилили куда-то, но тогда я не придавала этому значения.
Мы туда приехали, там была целая толпа народу. Лев Александрович всех спрашивал, а я за ним шла тихо. Ко мне он относился как к Ванькиной жене. Я не помню, то ли автобус при нас подъехал… нет — они уже стояли. Они стояли там, среди груды вещей. Марина Цветаева стояла, но у нее вещей было мало. Она все время повторяла: «Левушка, вот рис кончится, что будет? Рис кончится…» У нее была наволочка с рисом. А Мур все время куда-то уходил, я не знаю куда. Потом Боков рассказывал, что он им помогал. Но я тогда не знала, кто такой Боков [5], и никто не знал. И он меня тоже не видел. Мы незнакомы были. Просто никто из нас тогда ничего из себя не представлял.
Цветаева разговаривала в основном со Львом Александровичем, потом подошел Борис Леонидович Пастернак, и уже в конце приехал Эренбург. Я Эренбурга, по-моему, вообще первый раз и видела, потому что потом уже мы вместе с Брунями бывали у них в гостинице «Москва», когда вернулась откуда-то Любовь Михайловна. Не знаю, где она была. Они жили в нашем подъезде (имеется в виду Лаврушинский. — Н.Г. ), и у них разбомбило квартиру, и они переехали в гостиницу «Москва». Потом он жил прямо в «Красной звезде» (помещении газеты. — Н.Г. ), потому что Любовь Михайловна где-то отсутствовала. Но там были странные отношения.
Москва, улица Горького. Осень 1941
На пристани Эренбург на меня никакого внимания не обращал, разговаривал с Цветаевой и с Львом Александровичем. Эренбург очень любил Бруни и Нину Константиновну. Он спрашивал про сына, потому что знал, что Ваня ранен, и очень тяжело. Второй сын уже был на фронте и потом погиб. Недолго все это было, но мне хотелось скорее уехать в госпиталь. Тогда Цветаева меня поцеловала и сказала: «Жаль, что вы с нами не едете…» До этого я по телефону с ней разговаривала, я не помню: один или два раза. Она меня спрашивала, что брать с собой. Я, дура, конечно, говорила ей (тогда все считали, что война кончится 18 августа), что ничего не надо брать. У нее, наверное, и так ничего не было. Я бы ничего не взяла. Мама меня уже записала на пароход. Мы должны были плыть. Но привезли Ваньку 18 июля, он был ранен под Борисовом. Такое тяжелое было ранение, что его сразу в Москву отправили. На месте не могли сделать ничего. Лев Александрович принес мне записку в Историко-архивный институт, что Ваня тяжело ранен, и я кинулась в клинику.
Ну вот, пришел Эренбург, и я сказала, что поеду в госпиталь. Тогда Эренбург говорит: «Левушка, — он его так называл, — тут машина за мной приедет, я тебя довезу». Не потому что Лев Александрович один не мог, он не старый был, только плохо слышал, у него когда-то менингит бы в детстве, и глаз был немножко поврежден. Он сказал мне: «Я приеду еще в госпиталь», — так что это было, наверное, еще в середине дня. И я побежала опять на какой-то трамвай…
На улицах Москвы. 1941
Тут еще очень важно напомнить, что на этом пароходе вместе с Цветаевой и Муром ехала старая бакинская приятельница Татьяны Толстой и Алексея Крученых, детская поэтесса Нина Павловна Саконская с сыном Сашей Соколовским. Георгий Эфрон, который очень переживал, что на пароходе будут только женщины с маленькими детьми, был рад общению с ним и Вадимом Сикорским. Вместе с Саконской и поэтессой Татьяной Сикорской Цветаева искала работу и угол в Елабуге, потом, когда Сикорская уехала на время в Москву, Саконская уговаривала Цветаеву не уезжать из Елабуги в Чистополь, она же была последней из эвакуированных (кроме Мура), кто видел ее вечером накануне самоубийства.
Н.Г.: Лидия Борисовна, что вам рассказала Саконская, когда вы встретили ее в Москве, после ее возвращения из Елабуги?
Л.Б.: В 1942 году, осенью, когда она вернулась из Елабуги, мне было ни до кого — ни до Цветаевой, ни до Саконской. Я ушла к Либединскому, не знала, как быть, где жить… Я ее встретила на улице, в нашем Дегтярном переулке, когда шла с Малой Дмитровки, а она — к себе домой. Она сказала, что была у мамы, что только приехала. Ее выпустили из Елабуги, она просила об этом Фадеева, и еще за нее просил Кассиль. [6]
Сказала, что Цветаева была у нее накануне самоубийства. В закутке елабужской комнаты Саконской висело бакинское сюзане, которое она привезла с собой. Вышитое на сатине — тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа — кончается жизнь. Поэтому на всех ручных коврах есть такой завиток. Саконская рассказывала, что Цветаевой оно очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать. А на следующий день Цветаева покончила с собой.