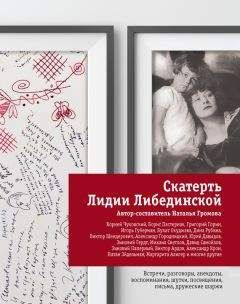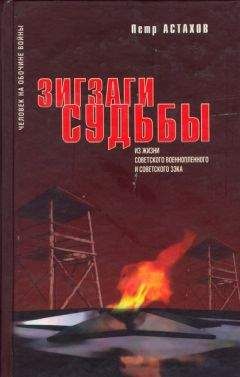Целую тебя,
Миша.
27 сентября 1942
Толстун!
Как видно из твоих писем, ты там не очень прыгаешь. Без меня не пляшется. То-то!
Писать тебе не о чем. За это время не было ничего нового за исключением того, что я один раз за обедом съел два вторых, так как был голоден.
Из твоего последнего письма также понял, что твой роман с Марком [10] в полном разгаре. Поменьше приставай к нему, и онтебя наконец полюбит. Тогда будет полное счастье. А я буду стоять в стороне и завидовать.
Поверишь ли, я тут живу совершенным монахом. Трудно приходится, но что поделаешь — война.
Целую тебя,
Миша.
Целуй дочку и Юру.
P.S. У меня теперь новый адрес: Полевая почта 1516, часть 251, мне. По старому адресу письма доходить не будут.
4 октября 1942
Толстун!
Значит, твое желание участвовать на бранном поле не осуществилось. Нам тоже нужны работники. Я попробую уговорить редактора. Сама ты сюда не доберешься, даже если захочешь приехать сюда.
Сейчас в Москве находится зам. редактора. Если телеграмма его еще застанет, он зайдет к тебе или оставит записку. Он живет у меня.
Но все это пока еще нереально. Надо, чтобы ты хотела, надо, чтобы редактор согласился, надо, чтобы телеграмма еще застала зам. редактора.
У меня — ничего нового. Хорошие стихи не пишутся пока. Забавный случай. Недалеко от передовых я читал бойцам стихи. В это время на нас пикировали три бомбардировщика. Все легли. Я продолжал стоя читать. Самолеты сбросили бомбу, не долетев до нас. Ты сама понимаешь, что аудитория не очень слушала меня.
Пиши. Поздравляю тебя с совершеннолетием. Не забудь мой новый адрес: 1516 полевая почта, часть 251, мне.
Целую,
Миша.
11 октября 1942
Милая морда!
Наколи побольше дров — приду зимой греться. И за веселым огоньком ты услышишь рассказы бывалого солдата. И баронМюнхгаузен побледнеет перед моим враньем. Итак, значит, я лечу верхом на снаряде… Ладно, потом довру…
Значительного ничего не написал. Все текущая работа.
Ты беспокоишься — жив ли я? А вот жив! А вот не простуживаюсь! А вот хочется коньячку или водочки, которые ты можешь прислать мне в жестяной посуде, чтобы не разбилась. А я выпью за твое здоровье!
В середине декабря, наверно, получу отпуск. И тогда, так и быть, увидимся разочек с тобой. Видишь, какой я великодушный.
2 декабря мои друзья здесь отпразднуют двадцатипятилетие моей литературной деятельности. Достань в этот день две стопочки, зайди к Акопу и выпей с ним за мое здоровье.
Заходил ли к тебе проездом через Москву мой друг — Коля Кононыхин?
Пиши. Целую. Миша. Москва, 1942
21 октября 1942
Толстун!
Был в отъезде, приехал и получил сразу три твоих письма. Если бы ты столько писала в литературе, то не поместилась быни в одной библиотеке. Продолжай в том же духе. Очень приятно читать твои письма.
У меня ничего нового. Бываю часто на передовых. Вижу много интересного. Когда приеду (думаю, в декабре), расскажу. А ты пока пиши что-нибудь высокохудожественное, и я по приезде прочту.
Учись, девочка, будь примерной, слушайся папу и маму и не читай Лидина.
Спасибо за желание оказать помощь. Я ни в чем не нуждаюсь.
Не огорчайся, если в твоем вузе нет ни одного Данте. Я знаю еще несколько таких вузов.
Заготовляй дрова к новой печке — приду зимой греться.
А пока — обнимаю и целую.
Миша. Михаил Светлов с боевыми товарищами. 1944
Спустя двадцать лет Михаил Светлов снова появился в жизни Лидии Борисовны, уже после ухода Либединского.
Встреча
Вереница случайностей неотвратимо вела Лиду Толстую к встрече с Юрием Либединским. После тяжелой фронтовой контузии он поселился в коммунальной квартире в проезде Художественного театра. Принадлежала квартира Марку Колосову, пролетарскому писателю, давнему другу Светлова и Либединского.
Это был один из первых писательских домов, выстроенный еще в начале 1930-х годов, правда, к писателям в соседние комнаты обычно подселяли работников НКВД. Колосову повезло: с самого заселения к нему попросился жить уже сильно больной астмой Эдуард Багрицкий. Вместе они прожили всего три года, а дальше по Булгакову — жильцы квартиры начали «пропадать». После смерти поэта спустя несколько лет исчезла его жена Лидия Густавовна, затем убежал на фронт Всеволод Багрицкий, в результате от семьи Багрицких осталась старая полусумасшедшая нянька тетя Маша. Сам Марк Колосов ушел на фронт. Но как-то летом, приехав в отпуск, он случайно встретил на улице Лидию Толстую и предложил ей записать свои фронтовые рассказы, назначив встречу у себя дома. Она согласилась.
Юрий Николаевич Либединский. 1942
Войти в дом можно было только через двор, квартира находилась на высоком шестом этаже. Лида поднялась по лестнице, стала звонить, потом колотить ногой в дверь, но никто не открывал. Наконец из глубины квартиры послышались тяжелые шаги, дверь отворилась, и перед ней появился неизвестный в военной гимнастерке. Позже она писала, что никогда не встречала такого красивого человека. Это был Юрий Либединский. Так они познакомились.
«Война, — вспоминал Либединский, — застала меня за работой. Большая книга, любимое заветное дело пяти последних лет, осталась незавершенной. Так иссякают колодцы: вода ушла, печально сухое дно родника. Все ушло туда, где стонала, пылала, обливалась кровью западная граница от моря до моря… Так я вступил в народное ополчение».
Они ушли из Москвы 11 июля. На фронт забрали тех, кого не взяли сразу — белобилетников, освобожденных от воинской повинности по возрасту или состоянию здоровья. Шел Даниил Данин, который ничего не видел без очков, маленький Фраерман, уже пожилой редактор «Огонька» Ефим Зозуля и многие другие — в толстых очках, туберкулезные, немолодые. Писатели составляли целое подразделение.
«Уходили — в прямом значении этого слова: в пешем строю, по Волоколамскому шоссе, на запад, — писал Борис Рунин. — <…> Нас было примерно девяносто человек — прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, вступивших в ополчение через оборонную комиссию Союза писателей. В одном строю шагали и уже маститые, такие как Юрий Либединский, Степан Злобин, Бела Иллеш, Рувим Фраерман, Павел Бляхин, и мало кому известные в ту пору писатели, как Александр Бек или Эммануил Казакевич».