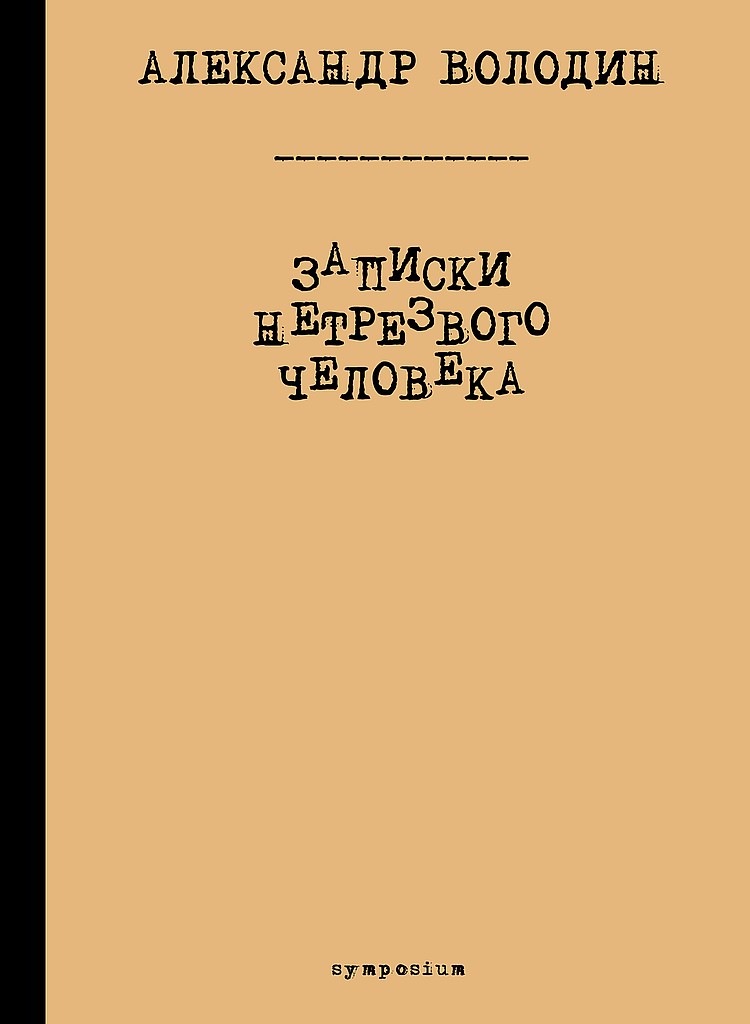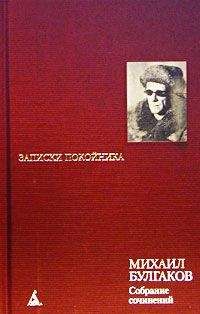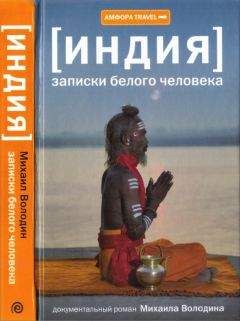class="p1">— Хорошо, — согласилась она.
— После шестого урока, — разошелся я.
И на это она согласилась.
После шестого урока она ждала на лестнице. Я стал спускаться к ней, но не мог остановиться и пробежал по лестнице вниз.
— Люба, ну ты идешь? — позвала ее подруга.
— Сейчас, минутку, — оказала она в ожидании.
Я снова собрался подойти к ней и снова не мог остановиться и пробежал по лестнице вверх. Тогда она ушла.
На улице я догнал ее.
— Люба, давай поговорим…
— О чем? — удивилась она.
Подруга засмеялась.
Я встретился с ней много лет спустя. Изменилась она мало, только то, что было раньше красиво, — стало некрасиво. Крупноватый нос, косоватые глаза. Была гордая — стала холодная, замуж не выходила, сначала — от гордости, не так за ней ухаживали, потом — от холодности, никто не оказался ей нужен. Сейчас ей вообще никто не нужен, кроме тихих добропорядочных родителей. Из своего района в городе она никуда не выходит: в театр — далеко, не стоит, а магазин, парикмахерская, работа — все рядом.
На улице я попросил разрешения поцеловать ее. Пускай закроет глаза и вообразит на минуту, что это — тогда. Она стояла настороженно, заранее отталкивая меня, коробясь неприличием всего этого.
Очевидно, чувство любви, которое может стать радостью человеческого существования, поначалу не отказывает себе в праве поиздеваться. Подурачит, поводит за нос, собьет с толку, заморочит, десять раз обманет, а потом уж — перед кем искупит свои забавы, а перед кем и нет. Так и проживут, и думают, что все в порядке.
И снова морочит: вон идет девушка — золотоволосая, платье треплется по ветру, она трубит в трубу… А это она просто пьет из бутылки молоко, идет из магазина. Ну и что, ведь могла же идти и прекрасная девушка с трубой, это же случайность, что не прекрасная и не с трубой. А вот на вокзальной скамейке задумалась, печально склонила голову… Ну и что, ведь могла сидеть и тихая, печальная, склонив голову, — и лицо было бы у нее не одутловатое после портвейна.
Далее, видимо, не будет случая вернуться к вопросу о современной молодежи. Поэтому — коротко: ходят слухи, что она циничная. Но дело в том, что у этой пресловутой молодежи внутри есть свои поколения, которые различаются между собой и очень существенно. Друзья моего сына совсем иные, нежели те, кто кончал школу несколькими годами ранее.
Сына я уважаю и давно, хотя он только что стал взрослым. Не боюсь испортить его похвалой. Он одержим наукой, которой занимается с десяти лет, поэтому скромен: видит перед собой такие непреодолимые высоты, что особенно гордиться какими-нибудь своими достижениями не может.
Излишки своего ума он уделяет шуточкам. Они бывают короткие и развернутые. Он любит пожить «в образе», например — восторженной туристки, или председателя колхоза, или представителя очень маленькой страны. Но главный предмет для шуток — это отец. Он сочиняет на меня пародии, похоже и смешно.
Однако если уж он уважает человека, то предельно. Так он уважает поэта Коржавина, артиста Юрского, профессора Шанина.
При нем нельзя ругаться или злиться. Раздражение как по мелким, так и по крупным поводам дико и неприятно ему. Видимо, мир в его представлении гармоничен. А глупое и подлое — что же, гармония мира и это включает в себя, значит, и на это можно смотреть широко и с юмором.
Я подал документы в Институт кинематографии, на сценарный факультет. Кино — это не очень искусство, не очень серьезно, попаду — хорошо, не попаду — не страшно.
Перед экзаменом по специальности я досыта наелся хлеба (какой-то поддельный, он был сладкий). Задание было — написать рассказ, однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит.
Преподаватель, который вел экзамен, обратился к поступающим:
— Что вы делаете, сразу пишете? Вот посмотрите на него. Он думает!
Думал же я о том, что меня тошнит.
Я успел написать около страницы, не подступив даже к началу задуманной фабулы. Пришлось отдать эту страничку и уйти.
Через несколько дней я пришел за документами. Девушки со старших курсов, которые там околачивались и были в курсе дел, рассказывали, что какой-то парень, солдат, написал потрясающий рассказ, всего одна страница, все в подтексте…
Для обучения сценарному (как и всякому другому) искусству время было трудное. Мы учились сочинять такие истории, где будто бы что-то происходит, но на самом деле — не происходит ничего. Мы знали такие секретные пружины, которые замыкали всякое событие — на себя, отключая его от реальной жизни. Мы страстно решали конкретные технические проблемы: способ проведения трассы, метод выполнения плана, — чем больше страсти в решении конкретной проблемы, тем больше убежденности, что все остальное — в порядке. Мы готовились утверждать утвержденное и ограждать огражденное. Для этого у нас были творческие дни, просмотры иностранных фильмов и Чехов, у которого мы учились. Но у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали. Главный наш девиз был: «Все хорошие, и всем хорошо». Нам и в голову не приходило, что цель искусства — не изображать жизнь лучше, чем она есть на самом деле, но добиваться, чтобы она стала лучше, кому бы она ни казалась достаточно хорошей.
Кто мог тогда знать, что жизнь, самые тайные пороки и болезни ее не могут остаться не отраженными в искусстве. Как двойные звезды, жизнь и искусство соединены невидимой тканью. Если эту ткань попытаться растянуть, рано или поздно она все равно сократится, и искусство нанесет свой запоздалый и потому осо бенно жестокий удар. Так сейчас книги, посвященные трудным годам нашей истории, кажутся односторонними и мрачными.
При распределении меня зачислили в сценарную мастерскую, где за солидную зарплату мы должны были писать сценарии. Я понял к этому времени, что писать их не могу и не буду никогда. Увернувшись от зарплаты и обязанности заниматься искусством, я пристроился редактором на киностудию научно-популярных фильмов в Ленинграде.
Так прошло много лет. Я вел трудную жизнь упорядоченного войной интеллигента с язвой желудка, которая вдруг прободилась по дороге в баню, с плохой памятью, что всегда будет осложнять работу, с устоявшимся отсутствием юмора — если в компании кто-нибудь обращается ко мне с шуткой — я погибаю.
Вспоминая что-то военное, я рассказал приятелю, как после ранения в легкое я не мог дышать и решил, что вот сыграл в ящик, и подумал: если бы мне дали прожить хоть