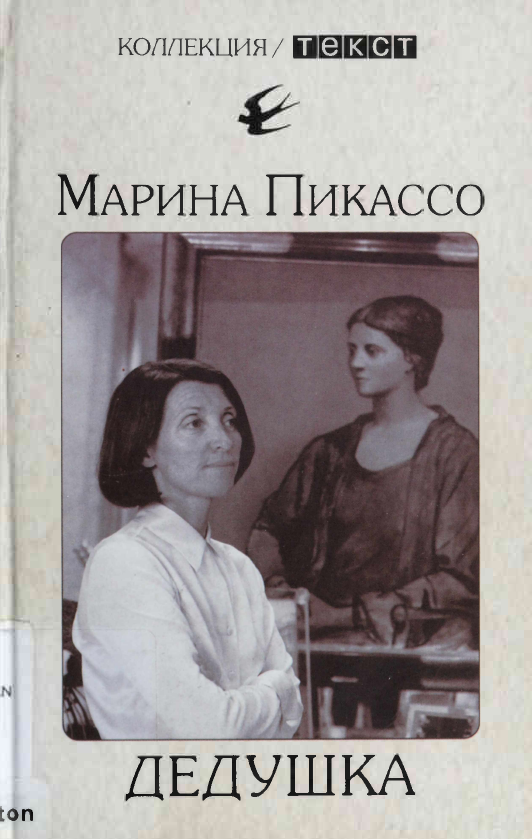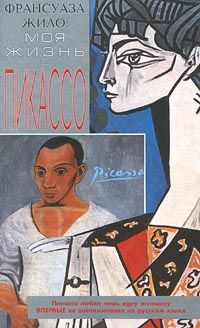то, что она была истеричкой. Но как не стать истеричкой, если тебя так унижают, бесчестят, позорят? Разве можно избежать этого после стольких жестокостей, низостей и разочарований?
Когда, разбитая столькими годами тоски, бабушка решила достойно оставить этот мир, мой отец пожелал один провожать ее в последний путь.
Без сомнения, чтобы попросить прощения за все зло, которое он причинил ей.
Конечно, чтобы сказать ей, что он любил ее… Наперекор тому, против того, кто изгадил всю их жизнь.
Женева.
Фредерика, та, что протянула мне руку помощи, когда я умирала, Фредерика, поддержка в злосчастные дни, отныне мой союзник во вновь обретенной жизни, подвезла меня на машине прямо к дверям того психоаналитика, с которым я, собравшись с духом, должна сегодня встретиться впервые. Я боюсь, я исхожу страхом.
Фредерика кладет руку мне на плечо.
— Все будет хорошо, — шепчет она.
Я как автомат выхожу из машины, врываюсь в подъезд этого незнакомого дома, вызываю лифт, и двери распахиваются передо мной. Приемная, невесомая мебель. Как я здесь оказалась? Я не знаю… как холодно.
Передо мной вырастает человек с суровым липом. Я не видела, как он вошел. Это, конечно, он, мой психоаналитик. Надо представиться. Вместо слов «Я Марина Пикассо» у меня вырывается только «Я внучка Пикассо». Я сама себя не осознаю. Я есть и всегда буду только «внучкой Пикассо».
Он вводит меня в кабинет, предлагает сесть, осматривает. Потом задаст вопросы. Я вяло отвечаю. Спустя час нашей беседы, прерывавшейся бесконечными паузами, он предлагает мне поработать с ним по пять сеансов в неделю. С одним условием — что я буду приходить на эти консультации сама.
От этой Голгофы в памяти моей сохранился тот головокружительный путь, который мне приходилось проходить, чтобы дойти до него. Щупальца улиц, западни перекрестков с красными ярлыками огней, грохот машин, проезжавших рядом с моей, панические попытки припарковаться и продолжить путь пешком; шоссе, как будто двигавшееся при каждом моем шаге, перекрестки, глубокие, как бездны, тревога, исходившая от зданий, которые, казалось, вот-вот на меня рухнут. Страх пустоты, ужас от перспективы заблудиться, оказаться замурованной в этом квартале, где я всегда теряла дорогу. Марш-бросок, полный засад и подстав: особый обряд пешеходного перехода, невозможность пройти по тротуару под страхом…
Под страхом провалиться в небытие и потерять свою душу.
И вот наконец облупившееся парадное, лифт с его икающими на каждом этаже роликами, металлические панно дверей, открывавшиеся с шипением, тусклый свет лестничной площадки и эта дверь с кнопкой звонка, под которой скромная визитная карточка: «П.-А. Дюванель».
Я вся в поту. Мне страшно.
Я лежу на диване. Месье Дюванель — поначалу я привычно называла его доктором сидит на стуле за моей головой. Мне нравится, что наши взгляды не встречаются. Мне так стыдно.
Я смотрю на книжный шкаф — симметричные ряды книг, несколько статуэток, фотография Франсуазы Дольто, — так ни слова ему и не сказав. Дюванель уважает мое молчание: молчание, набухающее криками, которые не хотят вырываться из меня, удушающими слезами… и вот издалека, из-за моей головы, голос терапевта:
— На сегодня все, мадам.
Встреча продолжалась двадцать минут. Немая встреча.
Я разражаюсь рыданиями.
Три месяца молчания и потоков слез, уносящих тонны и тонны грязи. Мать, отец, Пикассо, страдания Паблито, несчастья бабушки — только часть этой неотмывающейся, пыльной, омерзительной грязи: отец и его низкопоклонство, образ Пикассо, за которым не видно дедушки, Паблито и его безнадежный взгляд на больничной койке, бабушка, ее ноги, скрытые под норковым манто.
Все мертвы. Выжила только мать, невротичка, обезумевшая марионетка.
Да ведь и я тоже марионетка на этом суровом диване, где я умираю от каждого слова, вываливающегося из моего рта.
Слова. Те, что вызывают любовь, и те, что вызывают войну, потерянная память, оговорки, сокровенные воспоминания, метафора, истина, довод против истины, идентификация, свободные ассоциации: «море и мать», «небо и желчь», «любовь, смерть…».
Слова: живые существа.
И ожидание: ожидание скорби, запутавшейся где-то в животе, как вырвать ее оттуда…
— Уточните вашу мысль!
…вот что, надо хорошенько всмотреться в ее лицо, взять на ручки…
— Это было в «Калифорнии»…
И вот уже в настоящем времени:
— Это в «Калифорнии»… Я с отцом… Он ходит из угла в угол… Наливает себе стаканчик…
Завеса. Черная дыра. Я не помню, что сейчас сказала.
— Все на сегодня, мадам.
Некоторые сеансы воскрешали в памяти корриды, куда дед любил нас водить. Сидя рядом с ним, я испытывала настоящий ужас от всего этого шума, пестроты, от дикости этих любителей крови, от их завываний, требующих казни.
Я была за бычка.
На диване психоаналитика, взыскуя своего права жить, я должна была вообразить свою собственную казнь…
В том темном углу, куда меня загнало мое страдание.
Сколько уколов пикой получила я на этой арене, куда добровольно вышла. Сколько ударов рожками нанесла сама, чтобы выйти из жизненного тупика.
Сколько деревянных барьеров вдребезги разбила. И все эти бандерильи ранили меня по-настоящему, и после нежданных выпадов брызгала кипучая кровь моих горящих легких. Теперь я знаю, что была toro bravo, смелым бычком, как трубным гласом возвещал Пикассо, когда бычок героически сражался до тех пор, пока не выезжали лошади, чтобы увезти его труп, освобождая место для следующего боя.
Я была toro bravo.
Когда бабушка ушла, ни я, ни Паблито не плакали. Наше отчаяние было за гранью слез. Больше никогда не будет ее улыбки, ее успокаивающих слов. Больше никогда не будет ни ее доброты, ни тех нежных мгновений перед чашкой чаю, выпитой у ее изголовья: «Паблито, капельку молока?», «Марина, кружочек лимона?»
Этот чай. Его вкус до сих пор у меня во рту. Привкус потерянного рая.
Вспышки гнева — да, они тоже бывали, гневливость в адрес Пикассо, так и не пришедшего попросить прощения к ложу ее страданий, хотя жил он совсем рядом с той больницей, в которой ей предстояло окончить свои дни.
Его кисти не напомнили ему, как она была великолепна и царственна, когда позировала ему? Эгоизм, скупость сердца, низость, варварство.
Почему же он отверг ее любовь, после того как столько раз прославил ее в своих полотнах: «Ольга в мантилье», «Ольга в меховом воротничке», «Ольга читающая», «Ольга задумчивая» и еще столько всяких «Ольг», среди которых и вот эта «Ольга в кресле», словно озарившая холл моего дома, загадочная и высокородная весталка, следящая за моей жизнью и за жизнью моих детей.
Да, все рухнуло для нас с Паблито, когда эта прекрасная дама ушла в тот