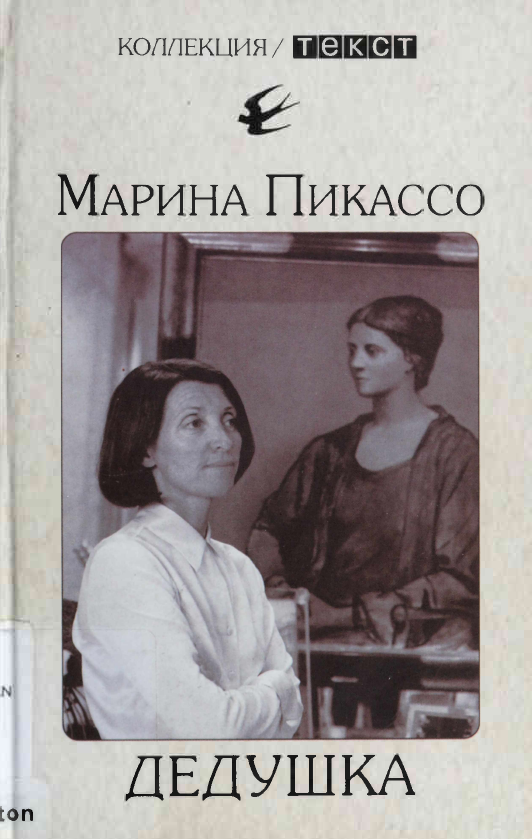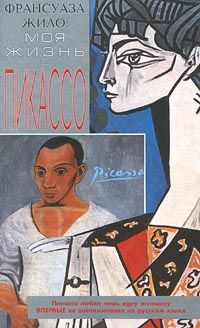один банан на двоих.
Нерегулярное питание, хлеб без масла, размоченный в горячем молоке, яйца, взбитые с мякотью помидоров, минимум подливки, рис — пища бедняков.
Ребенку не так уж трудно не пообедать вовсе, если он чувствует себя окруженным любовью. Но это становится куда труднее, если напыщенная велеречивость матери вызывает отвращение. Наша мать имела привычку тиранически поучать нас между двумя кусками. Она обрывала нас на полуслове, говорила за нас, причем ее теоретизирования касались буквально всего:
— Лучшие из фруктов — это дыня и малина… Я обожаю розовое. Пикассо говорил, что розовое хорошо подчеркивает мой цвет лица… Я люблю только короткие юбки. Мне нравятся полные груди… Пикассо тоже любит короткие юбки. Как и полные груди… и еще эта война в Алжире все никак не кончится. А чего еще ждать от этого Фронта национального освобождения, который поддерживает Пикассо…
Вереница глуповатых нелепостей, портивших мгновения, когда можно было побыть всем вместе.
Выйти наконец из-за стола казалось счастьем. И вот уже июнь, начало каникул, вновь обретенный пляж, велосипед, шлюпка, друзья… и наша мать, счастливая, что может вновь растянуться на песке в своем бикини и со своей бандой хулиганов.
Счастье наперекор ей самой. Счастье наперекор всему.
В ночи зазвонил телефон. Внезапно проснувшись, мы с Паблито затаили дыхание. Мы знаем — это отец. По обыкновению, он наверняка звонит из бара. Три звонка, четыре. Тишина. Мать в спальне сняла трубку.
— Думаешь, он хочет нас повидать? — шепчет Паблито.
Я молчу. Мне бы хотелось, чтобы было так.
Утром, рано встав, мы наводим порядок на кухне: посуду надо помыть, пол протереть тряпкой, белье вывесить на балконе.
А теперь нужно приготовить завтрак для матери: тарелка, чашка, чайник, сахар. Нет, сахар не надо — от него толстеют. Мы поглядываем на будильник. Девять. Прежде чем разбудить ее, надо убить еще два часа.
И вот мы ждем, не осмеливаясь пошевелиться.
А звонил и правда отец.
— Он вспомнил, что у него есть дети, — ворчит мать. — Сказал, что за вами заедет.
— Когда?
— В час. Внизу, у подъезда.
Внизу, у подъезда. Теперь он не имеет права подниматься. Больше никогда мы не покажем ему комнату, в которой спим, крепость, построенную Паблито в ящичке для обуви, школьные тетрадки, рисунки, развешанные на стене.
Его не желают здесь видеть. Больше никогда мы не сможем разделить с ним наш детский универсум.
«Калифорния», ожидание у решетчатых ворот, шаги старого привратника, ключ в замке и его слова, как ножом отрезанные:
— Вам назначено?
Двор, гравий, парадное и цербер — Жаклин Рок:
— Монсеньор принимает душ. Поиграйте пока в саду.
Тон строгий, высокомерный. Она здесь хозяйка. Мы должны слушаться.
Взявшись за руки, мы идем следом за таксой Люмпом. Бегать нельзя, тем более разговаривать. Монсеньор принимает душ. Нам не позволено нарушить сей торжественный момент.
Отец с сигареткой в зубах идет за нами. Он ускоряет шаг, и его сутулая спина мелькает среди статуй, сокрытых в диких травах. По дороге его рука срывает стебелек лаванды, и он подносит его к носу. Что напомнил ему ее аромат? Запах раннего детства? Или той поры, когда Пикассо еще уважал его?
Я оставляю Паблито, чтобы догнать его и тихонько всунуть руку в его ладонь. Я люблю его. Он мой папа.
Вот мы в ателье, где дедушка принимает нас в кальсонах, хлопчатобумажных кальсонах, натянутых так слабо, что из них выпирают все его причиндалы. Оскорбление для восьмилетней девчушки, какой я тогда была, и для семнадцатилетней девушки, когда он потом, на закате жизни, будет принимать меня в таком же виде.
Оскорбление или он меня дразнил? Нет, думаю, что его в семьдесят шесть лет попросту не волновало, что его увидят таким не только я, а например, кухарка или молодая уборщица. Его член был тем же, что и его кисти, рыбьи кости, скопившиеся в тарелке, помет Эсмеральды, валявшийся повсюду, кучи заржавевших консервных банок по углам. Член, кисти, рыбьи кости, помет, ржавые банки были частью его творческого мира, диапазона Пикассо, и с этим все должны были смириться. Даже если это шокировало.
Финик, инжир и орех, размятые в пальцах, взрыв сатанинского смеха и тут же урок — как надо жить. Абсурдный, иррациональный.
— Знайте, дети, что можно прекрасно прожить, обходясь без всего. Без ботинок, одежды, даже без еды. Взгляните на меня. Я ни в чем не нуждаюсь.
Мы с Паблито краснеем до корней волос. Может быть, мать прислала ему жалостливое письмо? Или он собирается отказать в пособии отцу? В который раз мы чувствуем себя виноватыми.
Ведь он и вправду ни в чем не нуждается в этой рваной тельняшке, неуклюже болтающихся кальсонах, комнатных тапках, сносившихся так, что видны все нитки. На что нам жаловаться? Дедушка такой же, как мы. Бедняк. Разница только в том, что у него куча грошиков, а мы сегодня вечером, как всегда, будем есть макароны.
— Главное, — еще подзадоривает он, весь сияя, — всегда делать то, что хочешь.
Фраза звучит для моего отца как удар хлыстом. Он опускает голову и бормочет:
— Пабло, я привез из Парижа картины, которые ты просил. Они в машине.
Уловка, чтобы скрыть страх. Свой всегдашний страх не понравиться всемогущему Минотавру, deux ex machina его разбитой жизни.
Дедушка даже не пошевелился. Он ограничивается улыбкой.
— Пауло, — наконец расслабляется он, — в это воскресенье Доминген выступает на корриде. Ты едешь со мной.
И добавляет, повернувшись к нам:
— Если тебе это в удовольствие, возьми Марину и Паблито. В конце концов, в них есть испанская кровь.
Визит подошел к концу. Мы благодарим дедушку за подаренный нам прекрасный день. Он наклоняется к нам, принимает наш поцелуй и бросает:
— Hasta la vista, muchachos! A domingo proximo! [3]
Мы возвращаемся к решетке, возле которой отец выгружает картины из багажника «олдсмобиля». Внося их в дом, он просит нас спокойно подождать его.
Возвращается он пританцовывая, с веселой миной на лице. Дедушка проявил снисхождение. Не сердцем, а кошельком.
Этим вечером мы поужинаем пиццей, купленной в траттории «Да Луиджи», в порту Гольф-Жуан.
Капелька роскоши.
«Монсеньор не желает, чтобы ему докучали».
Мы отходили, опустив головы. Дедушка принадлежал другим. Он был не для нас.
Мы гак и не смогли понять, почему столько людей восхищались им. Да можно ли вообще восхищаться человеком, захлопывающим дверь перед носом у детей?
И тем не менее говорили, что этот человек был преисполнен внимания к другим. Его видели в компании друзей у ворот «Калифорнии», где он срывал для