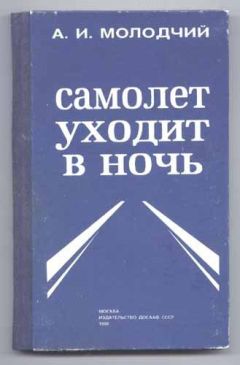— Все равно оторванный палец не вырастет, — шутил Редько.
Да, люди делали все возможное и жертвовали всем, даже жизнью, ради победы над коварным, жестоким врагом.
…В середине октября нашу авиадивизию перенацелили на помощь войскам Калининского фронта. Экипажи других полков, помогая наземным частям сдерживать натиск врага, непрерывно бомбили передовую линию противника. Мы же продолжали совершать налеты на тыловые военные коммуникации гитлеровцев.
В один из таких полетов наш бомбардировщик сильно обстреляли фашистские зенитчики. Осколками разорвавшегося вблизи снаряда самолет был поврежден, но продолжал держаться в воздухе.
«Дотяни до аэродрома, дотяни», — мысленно уговаривал я не то себя, не то машину, обращаясь к ней, словно к живому существу.
— Приближаемся к линии фронта, — песней прозвучали в наушниках слова Куликова.
— Очень хорошо! — обрадовался я.
Но в эту минуту наш разговор со штурманом прервал Саша Панфилов:
— Нас атакуют два "мессера"! Они заходят сверху! — И выпустил несколько длинных очередей. Через две-три секунды яуслышал его радостный возглас: — Горит один|
Я увидел объятый пламенем самолет. Он пронесся над нами, оставляя за собой длинный шлейф дыма перешел в пикирование и рухнул на землю.
— Порядок!
Застрочила нижняя пулеметная установка — это Леша Васильев отражал атаку второго стервятника. Но и на крыльях нашего самолета появились рваные отверстия. Успел-таки фашист пронизать самолет крупнокалиберной очередью.
— «Мессершмитт» ушел! — доложили стрелки.
Под нами был уже фронт, а за ним — и своя территория. Это, очевидно, и заставило немецкого летчика повернуть назад.
Бомбардировщик, изрешеченный осколками зенитного снаряда и пулеметной очередью, выпущенной истребителем, словно раненая птица, продолжал полет, но мне с трудом удавалось держать его на курсе и высоте. Температура масла около 100 градусов, воды — более 120. Вижу — не удержаться.
— Приготовиться к прыжку! — даю команду экипажу.
Перегретый мотор тянет все хуже. Начинаем терять высоту. Внезапно гул двигателя прекратился, машину сильно тряхнуло и винт остановился. «Конец», — мелькнуло в голове. Стало совсем тихо. Из-под капота мотора выскользнули языки пламени, и сразу же загорелось крыло.
— Всем покинуть самолет! — приказал я.
Через несколько секунд под машиной раскрылись парашюты. А в глубине сознания все еще таилась надежда спасти самолет. Очень уж не хотелось оставаться «безлошадным». Ищу глазами место посадки, планирую и сравнительно удачно приземляю горящий бомбардировщик на берегу незнакомой речушки.
Быстро выскакиваю из кабины, отбегаю в сторону. «Нет, спасти машину не удалось», — успеваю подумать и теряю сознание. Очевидно, при посадке я все-таки получил ушиб. Да, кажется, и ожоги.
Сколько я так пролежал, не помню, но когда открыл глаза, увидел, что окружен ватагой человек из двадцати деревенских мальчишек, с удивлением и молча рассматривавших меня. Какой-то старик держал мокрую тряпку на моем лбу. Я приподнялся на локти и застонал. Рядом блестела речка. Я даже вздрогнул, увидев ее — до чего же она похожа на мою родную Лугань. Как далеко ты сейчас от меня!
Старик провел по моему лицу влажной тряпкой.
Я сел и посмотрел вокруг. Невдалеке догорал мой самолет. Еще целы были хвост и часть крыла. Сердце тоскливо сжалось.
— Ты кто? — строго спросил старик.
— Вы не видели троих парашютистов? — вместо ответа обратился я ко всем.
— За лесом сели, — ответил кто-то из ребят.
— Не сели, а приземлились, — поправил его другой.
— Ладно уж, пусть приземлились.
Я облегченно вздохнул — значит, все в порядке.
— Ты кто такой? — снова спросил старик.
— Разве не видите — кто? — Я показал ему на остатки самолета.
— Там же звезды, дедушка, — пришел мне на помощь один из мальчишек.
— Молчи! — прикрикнул на него старик. — Звезды можно везде нарисовать… И язык русский выучить. Сколько таких случаев было: немецких лазутчиков ловили, а на них и форма наша, и разговаривают по-русски — не придерешься… Знаем… Ученые… — И снова ко мне: — Покажь документы!
— Так ведь, если придерживаться вашей логики, отец, то и документы можно подделать, — сказал я.
— Можно, — согласился старик, — но ты все-таки покажь…
Пришлось доставать комсомольский билет. Дед внимательно осмотрел его и вернул.
— Ладно, — он провел рукой по высокому морщинистому лбу, словно отгоняя от себя ранее возникшее подозрение, еще раз бросил на меня оценивающий взгляд глубоко сидящих глаз и коротко спросил: — Идти сможешь? — И, не ожидая ответа, бросил в толпу ребятишек: — Венька, Пашка, бегите к председателю, пусть подводу пришлет! — А сам вытащил из кармана кусок чистой белой ткани и стал перевязывать мне голову.
— Порядком садануло, весь лоб разбит, — вздохнул он. — Видно, при посадке ударился?
— Не помню, — признался я.
— Где уж помнить — огненным клубком летел на землю. Видели.
Смеркалось. В догоравшем самолете раздалось несколько глухих взрывов — это взорвались оставшиеся пулеметные патроны.
Я был уверен, что члены экипажа придут к месту посадки бомбардировщика. И не ошибся. Вскоре на лужайке в сильно сгустившихся сумерках появились три фигуры. Я узнал своих друзей. Двое высоких — это стрелки, третий — плотный, приземистый — Сережа Куликов. Они подошли к еще тлевшим остаткам самолета, осмотрелись вокруг, затем сняли шлемофоны и понуро склонили головы. Милые, дорогие мои боевые друзья. Они знали, что я не стану прыгать с парашютом, что буду бороться до конца за спасение самолета, и решили: погиб командир, сгорел вместе с машиной.
— Твои? — коротко спросил дед.
Я кивнул головой. Тогда кто-то из мальчишек звонким голосом нараспев прокричал:
— Дяди, он здесь! Он зде-е-есь!..
От неожиданности все трое отпрянули от обгоревшего остова бомбардировщика. Они не видели нас под развесистым кустом боярышника и, очевидно, не разобрали, откуда раздался голос мальчика.
— Сюда! Сюда! — наперебой зашумели ребятишки.
Я поднялся на ноги и шагнул навстречу друзьям.
— Саша, дорогой! Жив! — первым бросился ко мне Сережа Куликов.
Подбежали Памфилов и Васильев.
— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!.. — бессвязно повторяли они одно и то же, не в состоянии выразить словами охватившую их радость.
После крепких объятий, похлопываний по плечам — этих несложных знаков внимания, в которых выражается прекрасная мужская дружба, — друзья, наконец, заметили повязку на моей голове.