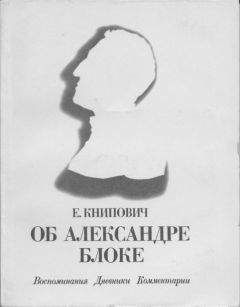«Лир» — трагедия, очень мной любимая, смысл которой блестяще раскрыт в статье Блока «Король Лир» Шекспира», — как мне кажется, не получил в спектакле должного воплощения.
Крепче всего остались в памяти две шиллеровские постановки — «Дон Карлос» и «Разбойники», особенно первая из них. Обе постановки эти были показаны в 1918–1919 году красноармейцам Петроградского гарнизона, и каждой из них предшествовало вступительное слово Блока.
После спектакля он расспрашивал работников театра о том, каковы были впечатления зрителей. И с большим удовольствием слушал рассказ о живой и непосредственной ненависти, какую вызвал в зрителях герцог Альба, а также и об их желании узнать, какова была дальнейшая судьба Карла Моора. Обо всем этом мне Блок рассказывал сам. А десятилетия спустя Товстоногов, вспоминая о тех временах, утверждал, что красноармейцы Петроградского гарнизона шли на Юденича с возгласом: «Бей Альбов».
Тот облик Большого драматического, какой сложился уже в первый его сезон, вполне соответствовал требованиям, которые, по ощущению Блока, предъявляла к искусству революционная современность. Это был театр реалистический «по форме», романтический «по содержанию», театр, где революционно–романтическое стремление жить с удесятеренной силой не давало реализму опускаться до натурализма.
Обо всем этом Блок и говорил в речи к актерам Большого драматического при закрытии сезона 1919— 1920 года — первого сезона в истории этого театра, — где утверждал, что победу свою молодой театр одержал потому, что отказался от «исканий», от горделивого стремления навязать зрителю свою волю и подавить его желание самому пройти тот путь, который скромно, без насилия указал ему театр.
Эту необходимость быть скромными, не навязывать, не подавлять творческое соучастие читателя или зрителя во встречах с великим искусством Блок защищал неустанно, шла ли речь о театре или «подаче» классического наследия литературы. «Искания» же были для него «суетой», которую не терпит «служенье муз», потому что «прекрасное должно быть величаво». И если неутолимая алчба нового, такого, чтобы уже ни грана старого (или того, что кажется старым) в нем не оставалось, может быть плодотворной лично, индивидуально для того или иного большого художника, то массу различных индивидуальностей, коллектив эта алчба объединить не сможет.
«Но юность нам советует лукаво…» — это Блок понимал… «Не спорю, не хочу спорить; есть и такой путь, и тот, в ком есть ненасытность, в ком очень раздражена и очень бушует кровь, рано или поздно бросится на этот путь». Но сам Блок твердо стоял за «величавый» путь скромности и самоумаления перед лицом жизни и великого искусства, и, конечно, именно «излучение» его личности сплотило «массу индивидуальностей», подняло до истинного величия тот гимн «добру и правде», какой с юношеской «вечно мальчишечьей» страстью «пропел» в «Карлосе» и «Разбойниках» Шиллер.
1920 год был, пожалуй, годом наиболее интенсивным в совместной работе. И, чтобы дать понятие о ее характере, я позволю себе включить сюда мою запись о работе над Пушкиным, запись, сделанную (не помню, с какой целью) уже в Москве, примерно год спустя после смерти Блока.
«Пушкинское» все отчетливее проступает в творчестве зрелом. И наконец, «Возмездие» — человечнейшее произведение Блока, где слились, собрались все пушкинские отзвуки, хранимые памятью с малолетства. Не случайно конец января, начало февраля 1921 года, когда Блок напряженно и неотрывно думал о Пушкине, были и неделями творческого возвращения к «Возмездию». О «пушкинском» в «Возмездии» Блок знал сам. Он у меня взял тогда книгу — альманах «Скрижаль», — которой у него не было и где было напечатано начало второй главы поэмы.
Я снова открыла эту книгу уже после его смерти, во время разговора и работы с Любовью Дмитриевной над изданием «Возмездия». Два места были отмечены его рукой. Одно (длинной чертой — много строк) :
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице нетрудно, —
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти…
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный…
А в набросках к тому же «Возмездию»:
«…И няня читает с ним долго–долго, внимательно изо дня в день:
Гроб качается хрустальный…
Спит царевна мертвым сном».
Первая мысль о подвиге — о пробуждении спящей царевны — от Пушкина, но у Блока это именно подвиг, потому что перед теремом царевны — битва.
Об этом в стихотворении «Сны» из цикла «Родина»:
…А няня тянет свой рассказ…
В дымно–синие туманы,
Где царевна спит…
Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей…
Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены…
С кем там бьется конник гневный,
Бьется семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей…
И сквозь дремные покровы
Стелются лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи…
Вся тоска героя «Возмездия», которому в детстве снились эти сны, — тоска о том, что наяву «Я не свершил того… // Того, что должен был свершить», не его меч ударил со звоном о хрусталь стены.
Обо всем этом мы говорили /позже — в первые месяцы 1921 года, когда Блок снова вернулся к работе над «Возмездием». Тогда он согласился со мной, что «спящая красавица» — второй главы «Возмездия» — не только «отзвук» спящей красавицы и Людмилы, но еще и пани Катерина, а колдун — это и колдун из «Страшной мести».
И когда он меня спросил — или пожаловался, — почему ему внутренне «не дается» судьба уже взрослого героя, я ответила: это потому, что герой не пишет стихов, — и на несколько удивленное «как?» напомнила ему не забытые мной его слова о том, что художник платит случайной жизнью за неслучайность пути. А если нет «пути» — то случайная жизнь теряет смысл и значение. Ответом был внимательный взгляд.
Вторая черта, сделанная рукой Блока в альманахе «Скрижаль», стоит против строки «Но уж судьба давала знак» (этой строки в окончательном тексте нет). В публикации «Скрижали» за ней шли — Петр I на головном фрегате входящего в Неву флота и кровавая заря, которая вставала, «грозя Артуром и Цусимой, грозя Девятым января».