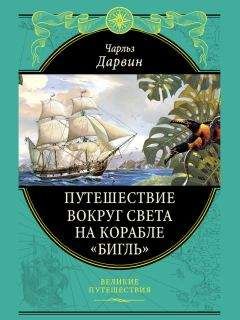Что такое война — я знала отлично. В это время мы, белые, жившие в Китае, существовали в полной неопределенности, целиком завися от спадов и взлетов Боксерского восстания[3]. Ночью моя одежда всегда лежала рядом, чтобы я могла мгновенно одеться, если мне скажут, что надо бежать. Керри показала мне, как удобнее ее положить, как быстро зашнуровать башмаки, как сподручней схватить с полу шляпку — на случай, если придется идти днем под жгучим восточным солнцем. Я должна была уметь проделать все это сама, потому что в доме был еще один ребенок, младше меня, который не мог позаботиться о себе. Для него и днем и ночью была наготове корзинка со сгущенным молоком. Она стояла у дверей, чтобы можно было схватить ее на ходу. Керри до мелочей все заранее продумала, всегда ко всему готовая, бесстрашная, не позволявшая никому из нас раскисать. Мы знали, что она о нас позаботится.
Смелость была у нее в крови, но, кроме того, ее многому научила гражданская война, опалившая ее своим огнем в раннем детстве. И вот длинным, жарким летом 1900 года мы упрашивали ее: «Расскажи нам что-нибудь о нашей, об американской войне». И она рассказывала, что запомнила маленькой девочкой в те волнующие дни, когда она жила в горах Западной Виргинии, разделявших Север и Юг, там, где столкнулись две армии, попеременно то побеждая, то терпя поражение. Впоследствии, когда я стала изучать этот период истории, я уже многое знала от нее, и знания мои были обогащены такими живыми и колоритными подробностями, каких не сыщешь ни в одной книге.
Благодаря ей я уловила самую суть этих грандиозных событий; и в той и в другой армии поначалу царили дух веселости и уверенность в себе, сменявшиеся после изнуряющих сражений недоумением и горечью, а под конец — отчаяньем и жаждой мести. Но страшнее всего были опустошавшие всю округу, вытаптывавшие плодородные поля ликующие победители, неважно с какой стороны.
Однажды ее глаза сделались суровыми от воспоминаний и она нам рассказала: «Янки, бывало, пугали нас, что Шерман решил проложить такую прямую, широкую и утоптанную дорогу в Джорджию, что ворона не найдет там ни зернышка. И, мне кажется, он так и поступил». И еще она сказала, нисколько это не подчеркивая: «По словам Шермана, война — это ад. Что ж, к тому времени он наверняка уже знал, так это или нет. Он пробыл у нас немало лет».
В другой раз она заметила: «Конечно, никто из нашей семьи не был сторонником рабства. Не больше, чем сам Линкольн. Мы были американцами и не могли не понимать, что это такое — рабство. Но сразу отпускать всех рабов тоже было не дело. После войны мы боялись нос высунуть из дому, и это при том, что в наших местах было не слишком-то много негров. Помнится, моему брату Корнелиусу пришлось даже на время вступить в Ку-Клукс-Клан, а то освобожденные негры не оставили бы нас в покое».
А как-то она начала вдруг смеяться и смеялась до тех нор, пока слезы не выступили у нее на глазах.
— Я никогда не забуду, как однажды утром янки расположились на ночь в нашем саду. Дело было зимой, деревья стояли голые. Я вышла посмотреть на этих людей из-за амбара, потому что всякое о них слышала: — в наших краях говорили, что у них рога, как у чертей. И когда я оказалась во дворе, то увидела на деревьях какие-то странные плоды. Я в толк не могла взять, что это такое, подошла поближе и увидела, что это куски хлеба. Солдат кормили хлебом из муки грубого помола, они отказывались его есть и забавы ради швыряли его на деревья: закидали им все ветки. Ну и потешный у наших деревьев был вид! Птицы не один месяц питались этим хлебом.
— А у них в самом деле были рога? — спросила я, затаив дыхание.
— Нет, не было, — заявила она, и глаза ее блеснули. — Люди как люди. Мне даже неинтересно стало.
И еще была одна любимая наша история, и мы просили Керри повторять ее снова и снова.
Однажды Германус узнал, что янки на подходе. Случилось так, что как раз в это время у него на руках были превосходные старинные драгоценности, которые некто из местных богатых помещиков отдал ему в починку. Он испугался, что их украдут, а цена им была такая, что нам бы век не расплатиться. Поэтому он решил их припрятать, уложил в маленькую закрытую коробочку, отнес на прилегавшую к саду лужайку и засунул под большой плоский камень. Среди дня действительно заявились янки и, к его ужасу, разбили лагерь на этой самой лужайке. Они то сидели на этом камне, то пользовались им как столом, а к ночи разбили над ним палатку. Германус наблюдал за ними. До самой темноты он не отходил от окна, стараясь проследить, не нагнулся ли кто-нибудь и не заглянул ли под камень. Пока были сумерки, все обошлось. Когда стемнело, зажгли большие факелы, но свет от них был таким неверным, что нельзя было ничего разобрать.
Всю ночь Германус с молитвой ходил по дому, наказав остальным молиться, коря себя, что не вернул драгоценности владельцу, и теряясь в догадках, что делать, если они пропадут, тем более что их владелец был человек гордый, по общему мнению, жесткий и взыскательный, а драгоценности были фамильные, невосполнимые. С рассветом солдаты двинулись дальше, и Германус выскочил из дома, полный тревоги. Он заглянул под камень. Коробочка с драгоценностями лежала себе на месте, никем не замеченная. Услышав счастливый конец этой истории, которую Керри, с ее живой мимикой, так занимательно пересказала, мы с облегчением вздохнули. Обычно она рассказывала свои истории по вечерам, когда мы в конце дня рассаживались в беседке и смотрели на рисовые поля, соломенные крыши крестьянских домов в долине, на изящную пагоду вдали, которая, казалось, висела среди бамбука на склоне дальнего холма. Но мы словно бы видели другое. У нас перед глазами вставали неровные поля и изрезанные уступами горы нашей родной страны, по которым скакали с развернутыми знаменами всадники в голубой и серой форме.
Затем настал ужасный день битвы между северянами и южанами у Горбатой Горы, и с утра до ночи с обеих сторон грохотали пушки, причем перестрелка велась через гору, и все семейство замерло в страхе, едва способное молиться, опасаясь, что Корнелиуса схватят в его убежище. Но перед рассветом он приплелся домой — в изодранной одежде и с до крови исцарапанными руками и ногами. Весь день он прятался в пещере, а под покровом темноты кинулся бежать с крутого, скалистого склона горы. Он был жив-здоров, но его маленькое поле, вспаханное под посев, было все изрыто снарядами.
Наступил день, когда в семье из съестного только и осталось, что кварта сушеных бобов, и в этот самый день к нам нагрянула компания отчаявшихся дезертиров-южан, ободранных, босых, помирающих от голода. Поглядев на них, матушка сварила все бобы, и каждый получил полную миску бобовой похлебки, а дети пошли собирать одуванчики на ужин.