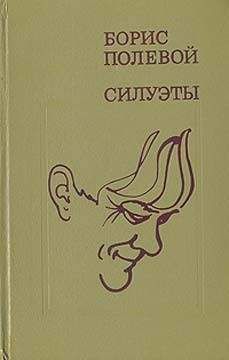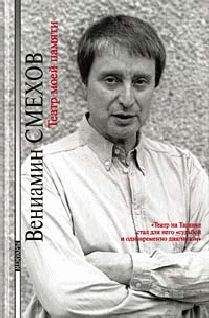Тарелки в соседней комнате продолжали еще греметь, а Горький уже появился в дверях, вытирая рукой усы. Осмотрел нас из-под клочковатых бровей веселым взглядом.
— Разместились? Сдвигайтесь поближе к столу. Без церемоний, без церемоний. — И сам поудобней уселся в кресле. — Вчера вот украинская делегация меня посетила, сегодня вы. Во все концы тянут… Жил себе человек спокойно, жил и жил. Потом вот приехал на родину, теперь теребят и теребят. За что, а?
Мы смущенно молчали. Наш собеседник улыбался. Наташа, обладавшая даром записывать все со стенографической быстротой, старательно склонялась над тетрадкой. Карандаши у нее от усердия один за другим сломались. Горький увидел ее беду. Достал из стакана один из остро отточенных карандашей и протянул ей. На лице ее отразилось блаженство: ну как же, заиметь карандаш, которым писал Горький. Наша Морковка не растерялась, извлекла из кармана мятый блокнотик и тоже протянула руку за карандашом. Наш хозяин, по-видимому, разгадал этот маневр, так как на лицах наших отразилась зависть. Он дал нам каждому по карандашу. Все это произошло при полнейшем нашем молчании. Хозяин кабинета, улыбаясь, с явным увлечением делился своими впечатлениями о Советском Союзе.
— Здорово, здорово у вас все шагнуло. За шесть лет такие перемены. Не ожидал, не ожидал.
И по своей привычке иллюстрировать все яркими примерами, тут же и сказал:
— Вот недавно был в колонии социально опасных, организованной ГПУ. Колонией этой, представляете себе, друзья, управлял бывший преступник. Три года назад попал сюда как вор… Ходят они там свободно. На руках у них… деньги громаднейшие. Ни копеечки не пропадает. Я разговаривал с некоторыми — хорошие, занятные люди.
Помолчал, басовито покашлял в ладонь. Достал папиросу, размял в руках и вдруг вежливо обратился к нашей Морковке:
— Вы разрешите?
— Валяйте, валяйте, — не смущаясь, разрешила она. — Ничего…
Покуривал. Выдыхал дым в сторону, отвертываясь от нас, и продолжал на ту же, вероятно особенно интересовавшую его, тему.
— Женщина одна там среди них есть. Миловидная. Рассказывая о себе, говорит: «Я и сейчас недурненькая, а ведь и вовсе красивенькая была». Ну, и крала по магазинам, шарашничеством это у них называется. А сейчас вот работает в мастерской, ткет плахты — это такие полотнища с национальным украинским орнаментом. Замуж вышла. Ребенка ждет… И ведь и сейчас очень хорошенькая… Прекрасно.
Отложил в пепельницу недокуренную папиросу и прислюнил, чтобы она не дымила.
— А один попал в эту самую колонию — украл что-то. Его поймали. Украденное отобрали и отпустили. Украл вторично. Удачно украл. Но сам потом в милицию пришел, говорит, арестуйте, не выдержал, спер. Но на этот раз все-таки осудили. Попал в колонию. А сейчас слесарь. Еще какой слесарь-то, лекальщик. Коньки там мастерят. Так он у них за главного. И еще в заводском оркестре на генерал-басе играет, как в свое время император всероссийский Александр Третий… Вы, поди, и не слышали о таком? — обратился он к Морковке.
— Слышали, — ответила та басом. — Толстый такой.
— Вот, если вдуматься во все это, ведь как это замечательно. Я прямо поражаюсь. Такое возможно только в стране таких дерзких людей, как большевики.
О современной молодежи говорил с необыкновенной сердечностью.
— Не хочу говорить вам комплиментов, но не могу не сказать: молодцы вы все-таки, милостивые государи. Сколько бодрости, задора, воли. Именно воли. Молодежь, возглавляемая комсомолом, бодра, энергична, упорна. Нет у ней той хандры и грусти, которая в свое время даже культивировалась в русской молодежи как эдакая будто бы национальная черта. Вам смешно, а в мою молодую пору модно было даже покашливать, дескать, у меня, кхе-кхе-кхе, туберкулез. А этому туберкулезнику только кули с солью на пристани таскать. Навидался я таких.
И сейчас же, хитро прищурившись, приводит пример:
— У меня, знаете ли, был вчера забавный случай. В московской пятьдесят шестой школе. Выходит на сцену эдакий господин лет четырнадцати, ершистый, лицо точно обрызгано веснушками, и так заговорил, будто Плевако — был такой на Руси адвокат. Неважно, что слова путал, главное, говорил с той уверенностью, с таким зарядом, что и меня захватил. Так-то…
Помолчали.
Задумчиво посмотрел в окно, на пустынный переулок.
ЗЕЛЕНОЕ КРЕСЛО
— Да-а, большие, большие у вас перемены, столько нового, интересного. — И как бы подчеркнул: — Такие быстрые перемены могут происходить лишь в атмосфере невероятной энергии.
Мы, разумеется, все молчали. Слушали. Записывали. Запоминали. И только Морковка отважилась перебить нашего маститого собеседника:
— А вы Ленина знали?
— Владимира Ильича? — Лицо Горького стало задумчиво. Воспоминания на миг разгладили на нем глубокие морщины. — Знал, знал. Вот человечище-то был. — И вдруг сказал: — Он здесь, в этой квартире у меня бывал… Вместе Бетховена слушали… Нет, не самого Бетховена, конечно, — с этим уточнением он адресовался прямо к Морковке. — Пианист Добровейн бетховенские пьесы играл. — Он встал, открыл дверь в соседнюю комнату. — Вон на том рояле. Хорошо играл Добровейн. А мы, Ленин, Екатерина Павловна и я, слушали. Владимир Ильич сидел, кажется, в том вон кресле, — он показал в глубину соседней комнаты, и все мы спрессовались в дверях, желая увидеть, в каком именно кресле сидел Ленин. Но не увидели. Кресло было несколько в стороне.
Горький улыбнулся.
— Хотите кресло посмотреть? Ничего особенного, обычное старое кресло. Ну, пойдемте.
Он встал, и мы прошли в соседнюю комнату, где маленькая пожилая симпатичная женщина стелила на стол бархатную скатерть. Это была просторная гостиная. Лампа под стеклянными висюльками плавала над столом. Несколько отличных акварелей на стенах. Большой рояль. На крышке рояля — странные деревянные игрушки — клоуны, черти, полицейские, все с оскаленными зубами.
— Это щелкунчики, — пояснил наш хозяин. — Орехи колоть. Может, кто слушал оперу «Щелкунчик»? Так вот такие щелкунчики.
Морковка не выдержала, присела в кресло, в котором сидел Ленин. В обычное, резное, обитое выгоревшим зеленым плюшем кресло, какие бывали в староинтеллигентских квартирах прошлого века. И, стыдно признаться, нам, взрослым, захотелось сделать то же. И сделали. Стали присаживаться по очереди. А Горький стоял в дверях, смеялся, откровенно и весело так смеялся, потом как-то особенно задушевно сказал:
— Хороший человек был Владимир Ленин. Мало таких людей жило на земле. — И из слова «хороший» выкатились увесистые, круглые, как бублики, «о».