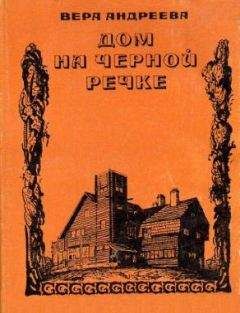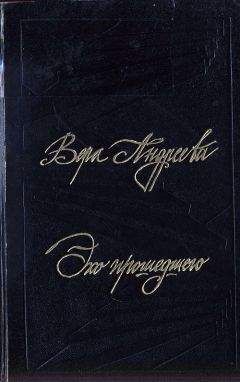Посещения заднего двора не особенно поощрялись взрослыми, но мы всегда находили предлог попасть туда, так как нас страшно привлекали конюшни, коровники и тот маленький хорошенький домик, где жили свиньи — гладкие, розовые, с двумя загадочными сосисками, висящими под подбородком, — порода, что ли, была такая? Загончик у них был перемешен ногами в непролазную грязь, но они бродили по ней с видимым удовольствием и даже валялись, блаженно хрюкая. Потом они теми же грязными ногами становились в корыто и ели свое месиво, так страшно чавкая, что мы сконфуженно отворачивались — вот уж настоящие свиньи!
В коровник мы не заходили вовсе, потому что громадные коровы внушали страх и уважение, — недаром мы выросли в Финляндии, где коров очень много и они бродят в полудиком состоянии во всех лесах и по всем дорогам. Няньки пугали нас ими, и только Саввка проявил раз необыкновенную храбрость — он гулял с мамой в саду и вдруг увидел страшную рогатую голову, выглядывавшую из-за забора. Вцепившись в мамину юбку, Саввка смело закричал корове: «Мука, ди, я за маму дезуся!»
На конюшне стояла добродушная кобыла Поляна с белой звездой на лбу со своим озорным сыном Хабьясом. Это было коварное животное, не поддававшееся никакой дрессировке со стороны Мики — кучера. Один раз Хабьяса запрягли в коляску, но он пронесся карьером, на крутом повороте у ворот тряхнул коляску о камень, лежавший там, ликуя, порвал постромки и помчался в поле. Мика, однако, не выпустил вожжей и не то как-то ехал, не то бежал за лошадью через канавы, поля и заборы.
Этот Хабьяс так и не сделался окончательно ручным и однажды зимой вывернул сани, в которых мама с тетей Наташей везли сотню мерзлых зайцев, прямо в канаву, заваленную снегом. Сани перевернулись и накрыли пассажирок, а Хабьяс умчался куда-то далеко по дороге.
Вскоре он скрылся за поворотом, а за ним скрылся и кучер Мика, напрасно взывавший свое «сатана, пергола…».
Когда, кряхтя и стеная, мама и тетя Наташа вылезли из-под саней, дорога была пуста, и им пришлось самим ставить сани на дорогу и разгребать сугробы в поисках зайцев. Многих тогда недосчитались, но это не было большой бедой, так как зайцы всем смертельно надоели. Они подавались каждый день к столу то жареные, то печеные, то под соусом, то в виде паштета… Ведь это уже были те времена, когда стало мало продуктов, и летом мы ели хлеб зеленого цвета, испеченный из небольшого количества муки и большого количества травы, — такая трава буйно растет под заборами и на помойках, она дурно пахнет, и листья у нее сочные и большие. Ее варили, пропускали через машинку и смешивали с мукой. Получался ярко-зеленый, прямо-таки изумрудный хлеб, который был изумительно вкусен, особенно с парным молоком. Отлично помню, как, за что-то наказанная, я была оставлена без обеда и посажена в пустую комнату. Рыдая, я сидела на матрасе, как вдруг отворилась дверь и сердобольная тетя Наташа просунула в щель кружку с молоком и большой кусок только что испеченного зеленого хлеба. Сейчас же горе было забыто, и я с наслаждением стала есть хрустящую горбушку, запивая вкусным финским молоком и от избытка чувств болтая в воздухе своими босыми, заскорузлыми ногами.
Это были уже те времена, когда папа — чтобы отвлечься немного от мучительных мыслей о войне, чтобы скоротать длинные пустые дни, когда почему-то перестали приезжать гости, чтобы не думать о нерадостных вестях, приносимых телеграммами, — придумал построить дорожку, которая вела бы по обрыву к берегу Черной речки.
Этот наш обрыв был самым интересным, диким и романтическим местом сада. Глубокая река крутой излучиной огибала обрыв, которым неожиданно заканчивался пологий спуск холма. Это был поразительный контраст, — куда вдруг исчезал наш культурный сад с его расчищенными дорожками, клумбами, с изящными группками молодых березок, с его пестрыми лужайками и серебристыми пихтами. Он исчезал, проваливался в дикий обрыв, где все перепутывалось в непроходимую чащу. Там в таинственной зеленой тени росли ландыши, там куковали кукушки, там цвела черемуха. Разве увидишь где-нибудь в Европе, во всех ее унылых, причесанных лесочках, простое русское дерево черемуху?
Вот она стоит на крутом спуске обрыва, спрятанная другими, более высокими деревьями, в непролазной гуще всяких кустов и травы. Ее сочные темные листья блестят от росы, а цветы — белые, пахучие — тяжелыми гроздьями свешиваются вниз, покрывают все дерево, наполняют воздух таким необыкновенным, единственным в мире ароматом. Потянешь за ветку, и пахучие капли росы падают на лицо, на шею, — они холодные в тени, тогда как верхушка дерева уже просохла, прогретая солнцем, и четко вырисовывается на синем небе, споря белизной с облаками, такими, каких тоже не увидишь в Европе.
Это был настоящий гончаровский обрыв, где, казалось, еще слышались таинственные выстрелы, шипящим эхом раскатывающиеся по крутому берегу Волги, то бишь Черной речки, это там стояла ветхая беседка, уничтоженная приказом бабушки Татьяны Марковны, только на нашем обрыве это была водокачка — хорошенький домик, где всегда шумели и тарахтели какие-то машины.
По обрыву спускалась лестница, вырубленная в земле, со ступеньками, местами обвалившимися и заросшими травой. В густой тени деревьев она шла зигзагами прямо на берег зеркально тихой Черной речки, получившей свое название от темного цвета воды, — налитая в таз, она и там казалась коричневатой. У берега был глубокий, тихий заливчик, отделенный от берега небольшой отмелью, где при низкой воде выступал крошечный песчаный островок. В мелком проливчике между отмелью и берегом было место наших купаний, потому что там светло-коричневая вода прогревалась солнцем. Маленькие рыбешки мелькали около наших загорелых ног, которые как будто бы ломались и прогибались в солнечных лучах. В заливчике, где было очень глубоко, купались взрослые. Они сходили в воду по деревянной лесенке — верхние ее ступеньки были сухие и теплые, а нижние, холодные и скользкие, уходили куда-то глубоко в темную воду. Задумчивые жуки, как опытные фигуристы, скользили по гладкой воде, — под их ничтожной тяжестью она только слегка продавливалась, пружинила. Мерцая голубым огнем, стремительно появлялась стрекоза и присаживалась отдохнуть на длинный стебель камыша, — только, затаив дыхание, протянешь руку, как она срывается и исчезает, как видение, а стебель камыша еще долго покачивается в теплом неподвижном воздухе.
На берегу стояла купальня — уютный деревянный домик с крылечком. В купальне стояли скамейки, на которых виднелись подсыхающие следы мокрых тел, висели пестрые мохнатые полотенца и душно, жарко пахло смолой нагретых солнцем досок. Оттуда слышится говор и смех переодевающихся людей, гулко отдающиеся в маленьком помещении, — все веселы, все шутят. Их бывало много, этих веселых, молодых людей: барышни в белых платьях, — они кажутся мне все на одно лицо, но это совсем разные «тети» — тут папины и мамины сестры, их подруги, знакомые; франтовато одетые мужчины в белых фланелевых костюмах время от времени бросают палку в воду, для того чтобы наш красавец сенбернар Тюха принес ее обратно. Пес с готовностью бултыхался в воду, быстро и ловко доставал палку и гордо нес ее тому, кто бросил. С его густой шерсти стекали ручьи воды, — дойдя до людей, он останавливался и вдруг изо всех сил встряхивался, скрываясь в облаке радужных брызг… Что тут делалось! Барышни с визгом бросались врассыпную, стараясь спасти свои туалеты, а мы хохотали, так как, зная коварный нрав Тюхи, заранее предвкушали это зрелище.