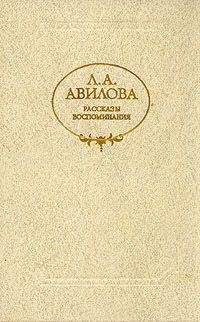Мать опять огорчалась. Но ее ждал новый, неожиданный удар: сын объяснил ей, что не намерен кончать университет и держать экзаменов: «Никаких бумажек мне не надо! — говорил он. — Не думаешь ли ты, что я буду чиновником?» — «Чем же ты будешь?» — в отчаянии взывала мать. «Я буду последователем учения Л. Н. Толстого».
Трудно описать огорчение, почти ужас матери. Ее мечта была уже так близка к осуществлению. Она уже почти успокоилась за судьбу старшего сына, и на очереди стоял второй, еще более строптивый и своенравный. Она допускала, что Федор мог бы еще лишний год остаться в университете, но чтобы вышел совсем, не получивши диплома, — с этим она примириться не могла. Но ни убеждения, ни просьбы, ни слезы не изменили решения брата, и в доме воцарился мучительный разлад.
Года за два до этого времени, я, в поисках литературной работы, зашла ко Льву Николаевичу, который обещал желающим компилировать для народа, давать или рекомендовать книги. Сознаюсь, что мне не столько хотелось получить совет, как увидеть Льва Николаевича, которого я никогда не видела. И вот как-то в зимний, мягкий, предсумеречный час, я позвонила у подъезда дома в Хамовниках и с замиранием сердца вошла в переднюю. И через несколько минут Лев Николаевич уже быстро спускался ко мне по лестнице со 2-го этажа дома. Помню, что в этот миг, когда я впервые увидала Льва Николаевича, я пережила какое-то особенно сильное и сложное чувство: я вдруг поняла, что не имела права прийти к нему, что мое желание работать для народа — выдуманный предлог и что тот факт, что Лев Николаевич сейчас бежит по лестнице из-за меня, покрывает меня стыдом и позором. У меня стало одно желание: выпросить у него прощение и уйти. Но я не сумела это сделать, скрыла свое чувство и, сидя перед Львом Николаевичем в маленькой комнатке, похожей на мастерскую, изложила ему цель моего прихода. Он выслушал и стал расспрашивать про мою семью. В его взгляде, в его вопросах я чувствовала, что он тоже знает, что я не имела права беспокоить его, что я глупая пустая девчонка и что лучше мне было просить у него прощение, а не работы. Но он говорил спокойно, без малейшего раздражения. Он сказал, что в большой семье старшей взрослой девушке всегда найдется достаточно много дела и что поэтому искать другого мне не надо; он перечислил мне все, что я могла и должна была делать, и тогда я встала и ушла[27]. И после я часто вспоминала это посещение, и когда рассказывала его другим, передавая только внешнее (как он бежал, что он сказал), мне казалось, что все это только «очень интересно», а когда я вспоминала для себя и вновь переживала свое чувство, я испытывала стыд и ясное сознание, что Лев Николаевич сразу увидал, что я пришла за интересным приключением. И в конце концов я «рассердилась» на Льва Николаевича, я приходила искать работу, которую он сам считал полезной, а он указал мне на мой долг, определил мне мое место в жизни, не считаясь с моими вкусами и желаниями. Мое недовольство собой перешло в недовольство за его совет. И вот его влияние вновь врывалось в нашу семью и на этот раз причинило глубокое горе моей матери и разлад среди всех ее детей. Мать часто и подолгу говорила со мной.
«Ему легко учить, — волнуясь, говорила она, — а неужели не думает он, как он калечит жизнь молодежи? Ведь он приносит непоправимый вред! Диплом — бумажка! Да! но поди-ка без этой бумажки! Ведь так и Федя. Похорохорится, а потом и спохватится, а поправить уже будет нельзя. Будет семья, будет нужда. А бумажка-то эта все бы спасла, все бы уладила! И просто подумать не могу, ведь уже кончал… даже кончил. Только бы экзамены сдать!»
И вдруг у матери созрело решение: «Пойду ко Льву Николаевичу! пусть меня выслушает! пусть поймет, к чему ведет его учение! Конечно, он скажет, что мое горе его не касается, что он его и знать не хочет. Скажет, что не горевать, а радоваться мне надо. Но все-таки, пожалуй, неприятно ему будет, что его влияние рассорило всю семью. Может быть, задумается над этим, убедит и Федю…»
Долго она собиралась, но, наконец, пошла. Робкая и застенчивая, она решилась на этот шаг в минуту острого отчаяния, после тяжелой ссоры с сыном. Она пошла отстранять препятствия, которые встали на его пути, охранять его безопасность, защищать его счастье.
«И я скажу! — я все скажу!» — повторяла она, подбадривая себя, очень боясь, что не будет у нее слов, а будут только слезы; не будет логики, а только жалобы.
Когда мать вернулась, она не захотела ничего рассказывать мне, а заперлась у себя. Мне приходили в голову всякие предположения, но ни на одном из них я остановиться не могла. В моем воображении опять встал образ Льва Николаевича, когда он спускался с лестницы, его взгляд, которым он так пристыдил меня, а, главное, движение его бровей, которое было красноречивее слов. Конечно, моя мать растерялась, оробела, не сумела высказаться, не посмела даже заплакать. Мягко и вежливо он убил в ней последнюю надежду.
И вот вечером мать позвала меня к себе. Она была бледна, сильно заплакана. Но в ее глазах была улыбка, которую я давно не видала.
— Какой же это человек? — сказала она и сжала руки, и слезы опять потекли по щекам. — Я пришла жаловаться ему на него же самого, я пришла упрекать и возмущаться… Думала — нахмурится…
Она засмеялась и махнула рукой.
— Ничего так не вышло, как я думала! Вообрази, он сам ужасно огорчился, чуть не плакал со мной. Все головой качал: «Ах! ах!» Я ему даже заметила: «Почему же вы-то, Лев Николаевич, огорчаетесь? ведь вы этому учили! вы этого хотели!» И вот я не могу тебе привести его слова, а я так поняла, что огорчен он потому, что боится, что у Феди это только порыв или каприз. Внешнее, а не внутреннее побуждение. Тогда для него это только вред, а для других это может быть освобождением, ключом к новой жизни. И все он про Федю расспрашивал и слушал, слушал… Федя у него, оказывается, с К[лопским] был, но Лев Николаевич тогда на него не очень обратил внимание. А мне даже удивительно! до чего мне легко было говорить и рассказывать! и как я теперь успокоилась! Верю я ему. А он обещал, что увидит Федю и сделает все, что надо.
После этого разговора я скоро уехала, но из писем матери знала, что Федя «чудит» больше, чем когда-либо, а К[лопский] окончательно завладел как им, так и всем строем его жизни. Лев Николаевич, очевидно, забыл свое обещание и не вызвал к себе Федю. Письма стали печальные и тревожные, но вдруг все как бы вновь прояснилось и засияло радостной надеждой.
Как-то вечером мать сидела у окна и вдруг увидала Льва Николаевича, который, озабоченно оглядываясь, остановился у наших ворот. Не было сомнения, что он искал нашу квартиру. Не успела мать выйти на крыльцо, как Федя уже бросился к нему навстречу.