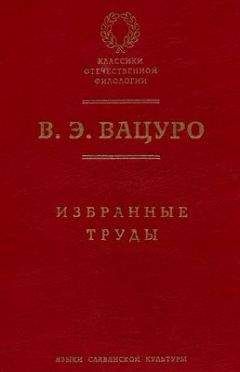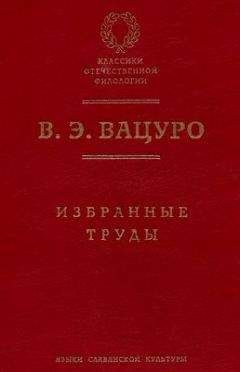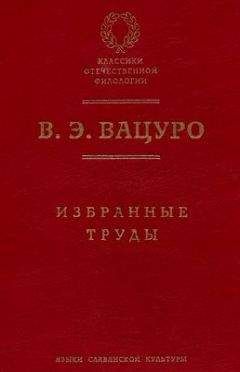Последнее замечание особенно интересно. Оно показывает, что для Белинского 1843 года «марлинизм» не равнозначен «экзальтированности», но составляет особый литературный стиль с некими устойчивыми структурными элементами. «Герой нашего времени», вышедший в первом издании в 1840 году, застал расцвет этого «марлинического» стиля.
Критическое наследие Бестужева-Марлинского дает в известной мере ключ к его поэтике. Литературный герой для него нормативен и исключителен; его деятельность определяется жесткими этическими правилами. Так как моральный кодекс задан герою изначала, можно с большой степенью вероятности определить, как он будет вести себя в разных сюжетных ситуациях. Деятельность его протекает в «свете», где индивидуальность нивелирована и моральные критерии чрезвычайно зыбки. Это — «житейская проза», «модное ничтожество», «люди, которых тысячи встречаешь наяву». Герой и представитель света резко контрастируют. Их противоположность — обычный источник конфликта.
Такое представление о героическом характере, общее для декабристского романтизма, получило теоретическое оформление в статье Бестужева и письмах его к Пушкину и братьям по поводу «Евгения Онегина»[24].
Предисловие к журналу Печорина, как можно заметить, обосновывает прямо противоположную художественную позицию. В центре повествования Лермонтов ставит «современного человека», которого он «часто встречал», синтезирующего типичные черты общественной психологии («портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» — VI, 203). Характерно, что, по мысли Лермонтова, «болезнью» Печорина заражен век, т. е. в числе других сам автор книги и ее читатели. Это обстоятельство совершенно исключает непосредственное вмешательство автора, диктующего героям свою этическую программу. «Нравственная цель» сочинения — в указании болезни; способ излечения автору неизвестен. Подобного рода «художественный объективизм» был единодушно отвергнут как читателями, воспитанными на повестях Марлинского, так и апологетами «нравственно-сатирической» литературы. Очень показательна в этом смысле явно конъюнктурная статья Булгарина. Чтобы похвалить роман, Булгарин вынужден был прибегнуть к домысливанию «нравственной идеи», которую Лермонтов якобы сумел доказать от противного[25]. История критической борьбы вокруг лермонтовского романа как нельзя лучше демонстрирует его эстетическое новаторство.
Было бы ошибочно думать, что поэтика «марлинизма» исключала появление характеров, условно говоря, печоринского типа. Время от времени они появляются — но на периферии повествования, создавая фон или контрастируя с главным героем. Один из таких «предшественников Печорина» в «Фрегате „Надежда“» (1832) заслуживает особого внимания, так как он составляет целое звено в эстетической системе Марлинского. Это ротмистр Границын, скептик и клеветник, едва не сыгравший фатальную роль в истории взаимоотношений Правина и Веры. Характеристика Границына отчетливо публицистична и кажется прямо заимствованной из ранних критических статей Бестужева. Это «человек без воли», выступающий против пороков «не хуже Саллюстия» и «пляшущий по их дудке», «как Репетилов в „Горе от ума“»[26]. Результатом была растраченная в развлечениях молодость и промотанное имение. «От обоих осталось у него пустота в кармане и душе, а на уме — едкий окисел свинцовой истины… За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою… Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени — разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру… Люди ныне не потому презирают собратьев, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку»[27]. Интересно отметить почти текстуальные совпадения с записью Печорина: «Я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе» (VI, 313). Автор, однако, не ограничивается недвусмысленной оценкой деятельности Границына, но считает необходимым заключить всю главу о нем воззванием к юношам: бегите от подобных людей и т. д.
Такое внимание к эпизодическому лицу получит объяснение, если мы обратимся к хорошо известному спору декабристов с Пушкиным по поводу «Онегина»[28]. Марлинский очерчивает «онегинский тип» и низводит его с пьедестала, т. е. делает то, что, по его мнению, должен был сделать Пушкин. На Онегина указывает и определение Границына как «доброго малого». Вместе с тем Марлинский пытается объяснить его характер, вполне понимая, что имеет дело с явлением общественной психологии.
Душевный склад Границына — удел поколения, «рожденного на границе двух веков». «…Восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый — за уши кверху, — говорит он. — … На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки…»[29]. Характерно, что Онегин для Марлинского — «ненатуральный отвар XVIII века с байроновщиной»[30]. В его статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» XVIII веку посвящен целый пассаж: «Франция XVIII века наводнила нас песнями, гравюрами и книгами, постыдными для человечества, гибельными для юношества выдумками, охлаждающими сердца к доблестям старины, лишающими собственного уважения. Эти-то отвратительные подстрекания убивали в цвету лучшие надежды России, ставя целью бытия животные наслаждения, внушая неверие или, что еще хуже, равнодушие ко всему благородному в человеке, ко всему священному на земле!..»[31]
Литературная практика Марлинского неотступно следует за этими эстетическими декларациями. Граница между «поэтическим» и «прозаическим» обозначается очень отчетливо; при этом (как справедливо отмечал еще Н. Котляревский) «этическое и эстетическое суждение являются… тесно друг с другом связанными»[32]. Интересно в связи с этим вспомнить, что В. К. Кюхельбекер «в нравственном отношении» отдавал драме «Маскарад» преимущество перед «Героем нашего времени», потому что в ней «есть по крайней мере страсти»[33].
Замечание Кюхельбекера концентрирует внимание на главном пункте расхождений между литературной позицией Лермонтова и Марлинского. Мелодраматизм в изображении страсти для Марлинского — принципиально важная черта художественного метода. «Страстность» — способность к непосредственному эмоциональному порыву, доходящему до аффекта, — являлась одной из основных характеристик положительного героя и своего рода мерой его «поэтичности». Страсть могла заставить героя нарушить нравственный кодекс — в таком случае она становилась источником трагической вины (ср. «Фрегат „Надежда“»). Однако она ни при каких условиях не лишала героя «поэтичности» и прочно обеспечивала ему авторское сочувствие. «Страстность» ставила его в «контраст со светом», «не терпящим в своей среде ничего исключительного». Такое понимание истинного героя вошло как неотделимая часть в поэтику «марлинической школы», подвергшись большей или меньшей вульгаризации, в зависимости от таланта писателя. Непосредственность и эмоциональность противостоят условности и этикету как естественное свойство человеческой природы. Правин («Фрегат „Надежда“») предался любви, «как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу, — и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в уксус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка»[34]. Эпитеты «дикий», «дикарь» постоянно фигурируют как условное обозначение «неиспорченной души»[35]. В одной из повестей В. Войта «контрастность» героя прямо декларируется в портретной характеристике: «Одетый со всею изысканностью моды, казалось, он только этим платил дань обществу, но во всех его движениях, в его глазах было что-то дикое, тяжелое, не скажу грубое. То был лев, запертый в клетку, поставленную среди людей, и толпа хладнокровно снует подле него, уверенная в железных заклепах. Но у этого льва есть когти, глаза его сверкают лютостию…»[36]