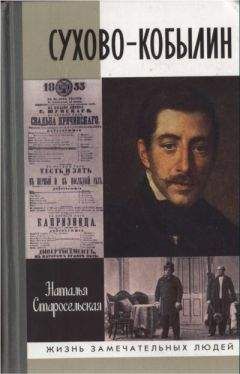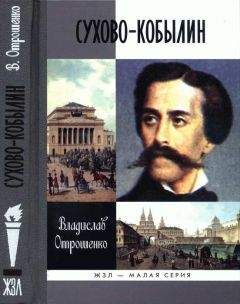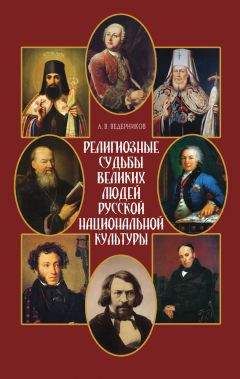По преданию, Александр Васильевич выразился более чем определенно: «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неравного себе человека — я бы убил ее или заставил умереть взаперти». А ведь он не мог не общаться с Надеждиным!.. В одном из писем к Елизавете Васильевне Николай Иванович писал: «В понедельник я, может быть, явлюсь на лекции. Надо дать экзамен студентам по моим предметам. Без этого не выпустят из университета. Что делать! Соберу все свои силы. Я должен буду увидеть Александра и экзаменовать его… пытка!». Это была пытка для обоих, для профессора и его студента, и пытка публичная, потому что все вокруг все знали и обсуждали. Каково было Александру Васильевичу при его неукротимом темпераменте, при неистовой гордости терпеть это!..
Может быть, сама судьба отомстила ему спустя несколько лет, когда он встретился с «неравной себе» Луизой Симон-Деманш и увлекся француженкой настолько, что семья вновь встревожилась по поводу репутации Сухово-Кобылиных?..
А пока в московских гостиных оживленно обсуждали роман знатной барышни с профессором «из низов», постепенно в скандал втянулись многочисленные знакомые и друзья дома. Аксаковы порвали все отношения с Александром, отчаявшаяся Елизавета Васильевна настаивала на похищении, помочь в котором взялся близкий друг Герцена, врач и переводчик Шекспира Н. X. Кетчер.
Раскроем «Былое и думы»: «Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег, и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали. Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его, — отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. „Она не придет, — говорил Надеждин спросонья, — пойдемте спать“. Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не раз, а десять раз, и ждала она час-другой; все тихо, она сама — еще тише — возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: „Он ее не любил!“».
Конечно, к этому сюжету можно отнестись по-разному. Герцен описывает неудавшееся похищение с явной иронией, несмотря на то, что и ему пришлось впоследствии увозить свою невесту, и снова на помощь пришел тот же Кетчер, только на этот раз на нем была соломенная шляпа, которую он потом надел на Наталью Александровну, когда они ждали приезда Герцена на кладбище. Но право на иронию дает Александру Ивановичу нерешительность, вялость тридцатилетнего профессора, спасовавшего перед обстоятельствами, да и не очень тщательно скрываемая неприязнь к «героине романа». Да, жизнь Николая Ивановича Надеждина оказалась разбитой, он потерял все, но не была ли его любовь «теоретической», как пишет Герцен? Не проявились ли в ней склонность к уступчивости, отказу от борьбы?…
Другая жертва обстоятельств, Елизавета Васильевна, излечилась от роковой страсти довольно быстро — в новом своем качестве, писательницы Евгении Тур, она вызывала у Герцена уже откровенное презрение, отягченное и отношениями с Огаревым…
И хотя поздние комментаторы этого события в жизни Надеждина и Елизаветы Васильевны склонны объявить Сухово-Кобылиных чуть ли не моральными убийцами, полагаю, что их жестокость по отношению к Надеждину была, увы, обычной для своего времени сословной чертой. Для преодоления такого препятствия требовался характер не Надеждина. И любовь, настоянная не только на романтических грезах…
Впрочем, злые языки утверждали, что всей этой истории предшествовал роман Надеждина с Марией Ивановной, а значит, в той агрессивной активности, которую проявила мать, было больше женской ревности и соперничества, нежели беспокойства о чести семьи. Говорили, что Надеждин на первых порах не только ничего не испытывал к своей ученице, но относился к ней с едва скрываемым отвращением, а потом соблазнился возможностью заполучить богатую и знатную невесту. Может быть, и этим вызвана ирония Герцена? Кто знает…
Вернувшись в Москву в 1835 году, Надеждин попытался оживить журнал «Телескоп» и опубликовал в нем одно из «Философических писем» П. Я. Чаадаева. Журнал был запрещен, а Надеждина выслали «на житье в Усть-Сысольск, под присмотр полиции». Слух об этом дошел до Елизаветы Васильевны, которая в то время жила с матерью во Франции. Она написала Николаю Ивановичу сочувственное письмо, но ответ на него, видимо, уничтожил в девушке остатки любви. Убежденный в том, что полиция перлюстрирует его переписку, Надеждин ответил возлюбленной, что раскаивается в своем поступке. Это был конец отношений. Елизавета Васильевна тяжело пережила свою драму, но, вероятно, поняла на всю жизнь, что за счастье надо бороться, что такие, вроде бы далеко отстоящие друг от друга черты, как любовь и сила воли личности, связаны теснейшим образом. Вот только и она оказалась неспособной на это…
Сплетни и слухи заставили Марию Ивановну увезти дочь на время за границу. Поправить здоровье и отвлечься от любовных страданий. План удался на славу — в Испании Елизавета Васильевна познакомилась с графом Андре Салиасом де Турнемир (позже она назовет его «титулованным ничтожеством», сославшись на то, что так называли его все окружающие). Еще не забывшая пережитого романа, Елизавета Васильевна равнодушно приняла предложение руки и сердца — о любви и речи не было: граф искал богатую невесту, Елизавете Васильевне необходимо было «восстановить свое честное имя».
Эта сделка никому не принесла счастья, брак был недолгим и несчастливым. Поначалу граф, человек, не отличавшийся ни интеллектом, ни моральными, ни деловыми качествами, решил удвоить доставшееся ему приданое в 80 тысяч рублей способом вполне традиционным — построил первый в России завод по производству шампанских вин. Он выписал из-за границы мастеров, организовал производство, но из этой затеи ничего ровным счетом не вышло. Вскоре он разорился, а спустя еще несколько лет дрался на дуэли и был выслан из России. Елизавета Васильевна осталась в Москве с сыном Евгением и двумя дочерьми. Больше она своего графа не видела.
Материальное положение молодой женщины с тремя детьми было крайне тяжелым, но Александр Васильевич, который очень рано взял на себя заботы обо всех делах семьи (он много помогал отцу на Выксунских заводах, помогал даже Салиасу в организации завода шампанских вин, владел конским заводом, текстильной фабрикой, винокуреным и свекло-сахарным заводами, ездил в Томск, присматриваясь к горнорудному и приисковому делу), — решительно отказал сестре в поддержке. Он считал, что приданое, выделенное ей, достаточная компенсация на всю жизнь. И это (кстати, оговоренное в законе) положение, разумеется, омрачило отношения между братом и сестрой.