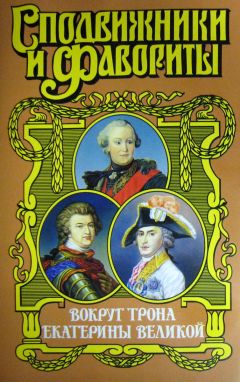После обеда у Великого Князя часто бывали концерты, в которых он сам участвовал, играя на скрипке… Он не знал ни одной ноты, но имел сильное ухо и полагал главное достоинство игры в том, чтобы сильнее водить смычком и чтобы звуки были как можно громче. И фа его раздирала слух, и нередко слушателям приходилось сожалеть, что они не смеют заткнуть себе уши.
Из «Истории и анекдотов революции в России в 1762 году» Клода Карломана Рюльера:
Он утешался низкими должностями солдат, потому что Петр I проходил по всем степеням военной службы, и, следуя сей высокой мысли, столь удивительной в монархе, который успехи своего образования ведет по степеням возвышения, он хвалился в придворных концертах, что служил некогда музыкантом и сделался по достоинству первым скрипачом.
Из «Записок» Екатерины II:
В мае месяце 1746 года мы переехали в Летний дворец. В исходе мая Императрица приставила ко мне, в качестве главной надзирательницы, родственницу свою и статс-даму Чоглокову…
К концу масленицы Ее Величество возвратилась в город. На первой неделе поста мы стали говеть. В среду вечером я должна была идти в баню в дом к Чоглоковым, но накануне Чоглокова пришла ко мне в комнату и, увидав Великого Князя, который сидел у меня, сказала ему от имени Императрицы, чтобы он также сходил в баню. Надо заметить, что баня и все русские обычаи и местные нравы были не только неприятны Великому Князю, но он их просто ненавидел. Он начисто объявил, что не пойдет в баню. Но Чоглокова не меньше его была упряма и не умела удерживать язык свой. Она сказала ему, что это значит неповиновение Ее Императорскому Величеству. Он стоял на своем и говорил, что не следует приказывать ему поступать вопреки своей природе, что он знает, как ему вредна баня (он в ней ни разу не бывал), что ему вовсе не хочется умереть, что нет ничего дороже жизни и что Императрица не может заставить его идти в баню. На это Чоглокова стала говорить, что Ее Величество сумеет наказать его за такое неповиновение. Тут Великий Князь рассердился еще больше и с жаром сказал: посмотрим, что она со мною сделает, ведь я не ребенок. Тогда Чоглокова погрозилась, что Императрица посадит его в крепость. После этого он принялся горько плакать; они наговорили друг другу самых оскорбительных вещей, и, по правде сказать, оба показали, как мало в них человеческого смысла… Наконец Чоглокова ушла, объявив, что все от слова до слова перескажет Императрице. Не знаю, исполнила ли она эту угрозу, но только она вернулась и совершенно неожиданно повела речь совсем о другом. Именно она объявила, что Императрица чрезвычайно гневается на нас, отчего у нас нет детей, и желает знать, кто из нас обоих виноват в этом, и что поэтому она пришлет ко мне повивальную бабку, а к нему доктора. К этому Чоглокова прибавила еще несколько других оскорбительных и бессмысленных слов и в заключение сказала, что Императрица разрешает вам не говеть эту неделю, так как Великий Князь сказал, что баня вредна для его здоровья. Надо заметить, что в обоих этих разговорах я не участвовала ни полусловом, во-первых, потому что они оба чрезвычайно горячились и не давали мне говорить, а во-вторых, потому что я видела, до какой степени они оба бессмысленны. Не знаю, как рассудила о том Императрица, но только после вышеописанной сцены больше не было речи ни о бане, ни о детях.
Из «Истории и анекдотов революции в России в 1762 году» Клода Карломана Рюльера:
Тем не менее придворный молодой человек, граф Салтыков, прекрасной наружности и недальнего ума, избран был в любовники великой княгини. Великому канцлеру российскому Бестужеву-Рюмину поручено было ее в том предуведомить.
Из «Записок» Екатерины II:
Между тем и Чоглокова, по-прежнему занятая своими попечениями о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: послушайте, я должна поговорить с Вами откровенно. Я, разумеется, стала слушать во все уши. Сначала, по обыкновению, она долго рассуждала о своей привязанности к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и что не нужно для взаимной любви и для облегчения супружеских уз; затем стала делать уступки и сказала, что иногда бывают положения, в которых интересы высшей важности обязывают к исключениям из правила. Я слушала и не прерывала ее, не понимая, к чему все это ведет. Я была несколько удивлена ее речью и не знала, искренно ли говорит она или только ставит мне ловушку. Между тем как я мысленно колебалась, она сказала мне: Вы увидите, как я чистосердечна и люблю ли я мое отечество; не может быть, чтобы кое-кто Вам не нравился; предоставляю Вам на выбор С. Салтыкова и Льва Нарышкина; если не ошибаюсь, Вы отдадите преимущество последнему. – Нет, вовсе нет, – закричала я. – Ну, если не он, – сказала она, – так, наверное, С. Салтыков. На это я не возразила ни слова, и она продолжала говорить: Вы увидите, что от меня Вам не будет помехи. Я притворилась невинною, и она несколько раз бранила меня за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Святой.
После Святой мы переехали в Летний дворец. Еще прежде я стала замечать, что камергер Сергей Салтыков что-то чаще обыкновенного приезжает ко двору. Его всегда можно было встретить с Львом Нарышкиным. Княжна Гагарина, которую я очень любила и к которой даже имела доверенность, терпеть не могла Сергея Салтыкова. Лев Нарышкин слыл просто чудаком, и ему не придавали никакого значения. Сергей Салтыков всячески вкрадывался в доверенность к Чоглоковым, и как сии последние вовсе не были ни умны, ни любезны, ни занимательны, то можно было, наверное, сказать, что он дружится с ними из каких-нибудь скрытных видов. Чоглокова, в то время беременная, часто бывала нездорова; она уверяла, что моя беседа так же дорога для нее летом, как и зимою, и часто присылала звать к себе. Когда у Великого Князя не было концерта или при дворе комедии, к ней обыкновенно собирались С. Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и еще несколько человек. Концерты надоедали Чоглокову, однако он не пропускал их. Сергей Салтыков изобрел оригинальное средство занимать его. Не знаю, каким образом в этом тучном человеке, в котором было всего меньше ума и воображения, Салтыкову удалось возбудить страсть к стихотворству. Чоглоков стал беспрестанно сочинять песни, разумеется лишенные человеческого смысла. Как только нужно бывало отделаться от него, тотчас к нему обращаюсь с просьбою написать новую песенку: он с большою готовностью соглашался, усаживался в какой-нибудь угол, большею частью к печке, и принимался за сочинение, продолжавшееся целый вечер: песня оказывалась восхитительною, сочинитель приходил в восторг и принимал приглашение написать еще новую. Лев Нарышкин клал песни на музыку и распевал их с ним; а между тем у нас шел непринужденный разговор и можно было говорить все что хочешь. У меня была толстая книга этих песен, не знаю, куда она девалась. В один из таких концертов С. Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых появлений при дворе. Сначала я ему не отвечала. Когда он в другой раз заговорил о том же предмете, я спросила, к чему это поведет. В ответ на это он пленительными и страстными чертами начал изображать мне счастие, которого он добивается. Я сказала ему: но у вас есть жена, на которой вы всего два года как женились по страсти, про вас обоих говорят, что вы до безумия любите друг друга. Что она скажет об этом? Тогда он начал говорить, что не все золото, что блестит, и что он дорого заплатил за минуту ослепления. Я употребляла всевозможные средства, чтобы выгнать из головы его эти мысли, и добродушно воображала, что я успела. Мне было жаль его; по несчастию, я не переставала его слушать. Он был прекрасен как день, и, без сомнения, никто не мог с ним равняться и при большом дворе, тем менее при нашем. Он был довольно умен и владел искусством обращения и тою хитрою ловкостью, которая приобретается жизнью в большом свете, и особенно при дворе; ему было 26 лет ‹…› Недостатки свои он умел скрывать; главнейшие заключались в наклонности к интригам и в том, что он не держался никаких положительных правил. Но все это было скрыто от меня. Весну и часть лета я была совсем беззаботна, я видала его почти ежедневно и не меняла моего обращения; я была с ним как и со всеми, видаясь с ними не иначе как в присутствии двора или вообще при посторонних. Однажды, чтобы отвязаться от него, я вздумала сказать, что он действует не ловко; почем Вы знаете, – прибавила я, – может быть, мое сердце уже занято. Но это нисколько не подействовало, напротив, его преследование сделалось еще неутомимее. О любезном супруге тут не было и помину, потому что всякий знал, как он приятен даже и тем лицам, в кого бывал влюблен, а влюблялся он беспрестанно и волочился, можно сказать, за всеми женщинами. Исключение составляла и не пользовалась вниманием его только одна женщина – его супруга.