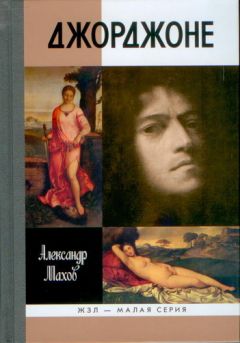Это были годы, когда происходило удивительное слияние гуманистической культуры с изобразительным искусством, отражающим в аллегорической форме величайшие ценности жизни. Повсеместно происходило переосмысление роли художника, когда из подчинённого церкви хранителя традиций и обрядности он начинал переходить к свободному волеизъявлению своего собственного религиозного чувства.
Пока Церковь продолжала быть главным заказчиком, от любого художника требовалась большая сила духа, чтобы противостоять диктату и почувствовать себя свободным. Обратившись к самому себе, художник стал яснее ощущать свою силу, богатство собственной души и неожиданно проникался радостью бытия и личной значимости как творец.
Венецианские художники начинают глубоко интересоваться окружающей природой и жизнью людей. Их стремление преобразить действительность и вмешаться в неё посредством искусства было намного сильнее, чем у средневековых мастеров, соблюдавших религиозные каноны и освящённые традициями схемы написания картин.
В отличие от них живописцы середины XV века с подкупающей непосредственностью и живым любопытством отражали в своих произведениях окружающий мир, постигая его закономерности. Их главная задача была воспеть человека, преклоняясь перед его силой, разумом и красотой. Как говорил Сенека, «ничто не заслуживает восхищения более, чем человеческая душа, по сравнению с её величием ничто не является великим».23
Эпоха Возрождения — это совершенно новое представление о величии человека и его достоинстве. Перед интересом к человеку меркнет всё прочее, что составляет содержание мира. Принято считать эту эпоху молодостью человечества, когда наука обогатилась новыми фундаментальными знаниями о мире и был открыт Новый Свет. А молодости, как известно, свойственно смотреть скорее в будущее, нежели назад в прошлое, каким бы великим оно ни было. Ей присуще жить настоящим и радоваться жизни. Известный венецианский танец furlana, который в дни карнавала лихо отплясывают все от мала до велика, сопровождается озорными припевками.
Молодость, как краткий миг, —
беззаботен светлый лик.
Она радуется жизни
и не думает о тризне.
Всяк, кто станет на пути,
Должен в сторону уйти.24
Эта тема постоянно была предметом оживлённых споров в венецианском обществе, которое дорожило своим благоденствием в настоящем, но порой задумывалось и о грядущем, особенно когда до него доходили слухи о событиях на terra ferma, где проливалась кровь.
* * *
Юный Джорджоне был очевидцем бесед и споров среди именитых гостей своего наставника, впитывая в себя как губка мысли о любви, красоте, поэзии и музыке. Они находили отзвук в его впечатлительной натуре.
Он остро ощущал пробелы своего образования, полученного в приходской школе родного городка, хотя с латынью трудностей у него не возникало. С разрешения Беллини иногда брал из богатой библиотеки при мастерской заинтересовавшую его книгу, чтобы на досуге почитать в своей каморке при свече.
Со временем чтение стало его страстью, и без книг, как и без красок, он не мыслил своего существования. Особенно его увлекала поэзия, и стихи многих поэтов он знал наизусть, поражая окружающих своей редкостной памятью. В нём настолько сильно проявлялась поэтическая натура, что, видимо, уже тогда он начал сочинять стихи и подбирать мелодии к своим песням под аккомпанемент лютни. Со временем песни принесли ему не меньшую известность, чем первые его картины. Но ни стихи, ни сочинённая на них музыка — ничего из этого не сохранилось.
Своими мыслями об услышанном и прочитанном он часто делился с товарищами по мастерской, среди которых наиболее близкие, доверительные отношения у него сложились с подмастерьями года на три-четыре постарше. Прежде всего, это балагур Себастьяно Лучани (вошедший в историю искусства под именем Дель Пьомбо), по-детски наивный коротышка Якопо Пальма Старший, молчун Лоренцо Лотто и говорун Винченцо Катена. Все они, считая себя коренными венецианцами, взяли под свою опеку иногороднего пришельца, помогая новичку советами.
Много полезного он почерпнул от задумчивого Лотто, самого одарённого из подмастерьев, вечно погружённого в свои неведомые мысли. В нём Джорджоне почувствовал родственную натуру. Но поговорить с ним по душам и сойтись поближе так и не удалось, поскольку Лотто вскоре покинул мастерскую, уйдя, как говорится, на вольные хлеба.
Несмотря на разницу в возрасте, опытные мастеровые ценили в младшем товарище трудолюбие и душевное благородство. Он был добрым, отзывчивым парнем, любителем шутки, острого словца и душой любой компании со своей неразлучной лютней. Но за ним водились непонятные странности, когда порой он вдруг замыкался, впадал в хандру и, о чём-то думая, перебирал струны лютни, словно ища в звуках ответ своим мыслям.
В такие минуты к нему было не подступиться и лучше ни о чём не спрашивать. Такое случалось, когда на дворе стояло ненастье. Но едва проглядывало солнце, как он снова становился весел, радовался жизни и его приподнятое настроение передавалось товарищам по цеху.
Когда же заходил разговор о той или иной картине учителя или кого-то из знакомых художников, то к мнению Джорджоне подмастерья прислушивались, хотя не всё в его словах было понятно — уж больно заумными казались им рассуждения этого парня, выделявшегося не по возрасту своей серьёзностью и начитанностью. Ведь многие из них никогда в руках не держали книги.
Именно товарищи по цеху стали первыми называть своего подопечного Zorzon — Джорджоне. Пройдёт совсем немного времени, и каждый из них подпадёт под сильное влияние его искусства.
Вскоре их дружная компания пополнилась. В мастерской появился высокорослый отрок лет десяти по имени Тициан Вечеллио, уроженец горного Кадора. Говорят, он расстался с прежним учителем Джентиле Беллини, хлопнув в сердцах дверью после того, как тот грубо обругал его за один рисунок, заявив во всеуслышание, что художника из него не выйдет. А вот младший Беллини, зная сварливый характер брата, пригрел обиженного парня и принял к себе на обучение.
До конца своих дней Тициан сохранял добрую память о наставнике. Среди остальных он отличался молчаливостью и брезгливостью, когда затевался разговор на щекотливые темы, до коих мастеровые были охочи: их хлебом не корми, а дай поскабрезничать.
Как-то Беллини представил ребятам нового подмастерья Лоренцо Луццо, парня лет двадцати, уроженца городка Фельтре области Венето. За мрачный колорит своих работ и страсть копаться в костях и черепах, извлечённых из древних капищ, он получил пугающее прозвище Морто ди Фельтре (Мертвец из Фельтре), которое за ним закрепилось на всю жизнь, но он не обижался.