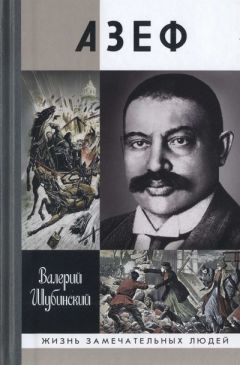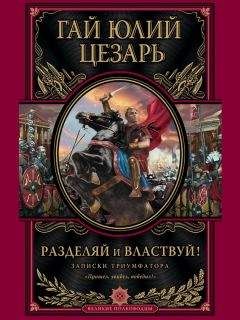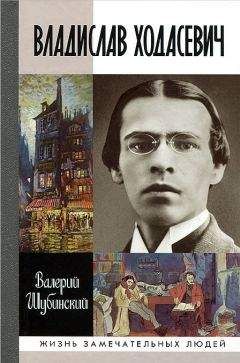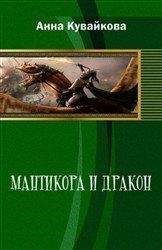В начале ноября Азеф появился в Париже. Теперь он был растерян, встревожен. Он пытался выведать у Савинкова, что за новую улику предъявил Бурцев. Савинков — по его словам! — смолчал. Он советовал Азефу либо явиться на суд, либо ехать в Россию и приступить к обычной террористической работе, делом доказывая свою невиновность. Азеф говорил, что у него нет сил ни на то, ни на другое.
В этот момент в мозг Савинкова впервые закралось сомнение.
Перед отъездом Аргунов посетил Любовь Григорьевну. Она знала, что Аргунов едет в Россию, но не знала, естественно, зачем. Однако — догадалась. «Она встретила меня известием… что Бурцев сослался на какого-то важного сановника и что назначена проверка этого сановника. И эту проверку, заключила она, вероятно, будете делать вы». От кого жена Азефа узнала это? Неважно. Важно, что это знал — от нее — и ее муж. Вычислить имя «сановника» ему, с его-то аналитическим умом, было нетрудно.
Аргунова это не огорчило. Он сам перед отъездом отправил открытку «бедному Ивану Николаевичу» — просил не тревожиться и сохранять бодрость.
Прибыв в Петербург, Аргунов связался с кадетами. Они, против его ожиданий, охарактеризовали Лопухина как достойного человека, который давно не имеет ничего общего с правительством. Другие отзывы были в том же роде. Адвокаты, которые отказали бывшему полицейскому в приеме в свое сословие, притом не могли сказать о нем ничего плохого.
У Аргунова был «надежный паспорт», данный… Жученко. Но никто не беспокоил его до 11(24) ноября. В этот день он обнаружил за собой «демонстративную слежку». Ему удалось уйти от филёров, вскочив в извозчичью пролетку. На следующий день снова была слежка — и снова Аргунову удалось уйти. Его так и не взяли, хотя у полиции была информация и о нем, и о его миссии, и, вероятно, о его местонахождении. Арест Аргунова был бы важным аргументом, подтверждающим бурцевские обвинения. Но зачем же тогда за ним в открытую наблюдали?
Похоже, полиция попала в ловушку — Герасимов не очень понимал, как ему быть.
Что же происходило в эти дни, что стало причиной смятения?
Азеф в самом деле вернулся в Париж из Испании в очень подавленном состоянии. Если прежде он, пожалуй, расчетливо демонстрировал страх — там, где надо, перед тем, кем надо, то теперь он действительно был испуган и не мог себя сдерживать. Даже товарищи по партии видели, что перед ними — не прежний Иван Николаевич.
Минор собирался ехать в Россию восстанавливать Поволжский комитет. Азеф уже выдал его. Он опасался, что полиция не будет достаточно осторожна, арестует Минора и его товарищей и «подставит» его. И вот он до двух часов ночи без всяких внятных аргументов уговаривает Минора воздержаться от поездки — хотя прежде он же и советовал ему взяться за это дело. Понятно, что это внушало дополнительные подозрения.
Проще всего было бы бежать. Но что-то мешало. Что? Сыновья? Азеф уговаривал жену уехать в Швейцарию, а мальчиков оставить с ним. Она, естественно, не соглашалась — хотя и не догадывалась о его замыслах. Но не только в сыновьях было дело. Встать из-за стола, не доиграв — нет, этого Азеф не мог себе позволить, хотя уже знал, чувствовал, что его карта бита.
В какой-то момент он переехал в гостиницу — старательно уложив в чемодан все свои костюмы. Зачем? Жене он сообщил, что за квартирой может следить русская полиция. Она поверила. Чего он боялся в самом деле? Чего хотел? Возможности незаметно исчезнуть?
Пока что жизнь в гостинице в самом деле позволила ему втайне от жены и знакомых отправиться в Петербург. Это произошло как раз перед 10 ноября старого стиля.
Накануне Браудо передал Лопухину письмо от Бурцева. Историк жаловался, что его утверждениям не верят, говорил, что он на грани самоубийства. Суд хочет, чтобы он, Лопухин, подтвердил свои слова.
И в это же время на тайную квартиру Герасимова явился Азеф.
«Азеф был совсем подавлен и разбит. Он помнил судьбу Татарова и Гапона — и сейчас готов был на все, согласен был уехать на край света и вести жизнь Робинзона, — лишь бы только спасти жизнь. Сидя в кресле, этот большой, толстый мужчина вдруг расплакался.
— Все кончено, — всхлипывая, причитал он. — Мне уже нельзя помочь. Всю жизнь я прожил в вечной опасности, под постоянной угрозой… И вот теперь, когда я сам решил покончить со всей этой проклятой игрой, — теперь меня убьют.
Рассказ Азефа звучал чудовищно невероятно. Я знал Лопухина уже семь лет, раньше в Харькове, потом в Петербурге, знал его как человека, понимающего ответственность своих поступков, и как чиновника, ставящего исполнение долга всегда на первом плане… Я знал, что у него были конфликты с Треповым и Рачковским, а затем и со Столыпиным, и я находил, что по отношению к нему правительство поступило нелояльно. Он был единственный директор Департамента Полиции, который после отставки не был назначен сенатором и за которым даже не сохранили оклада. Он был, естественно, огорчен и обижен, и все это делало понятным враждебное направление его мыслей.
Но я не мог себе представить, что эти обстоятельства могли побудить его преступить свой долг и пренебречь сохранением служебной тайны. Я сказал потому Азефу, что дело это не может обстоять так, как он его излагает, что тут имеет место какое-то недоразумение. Пусть он спокойно отправится к Лопухину и вместе с ним лично урегулирует дело…»[275]
Наверное, даже сейчас эти рыдания были отчасти театральными. Азефу надо было побудить Герасимова к каким-то действиям. А Герасимов предоставлял ему действовать самому.
И вот — поздний вечер 11 ноября.
Лопухин сидит в своем кабинете. Через полтора часа у него поезд в Москву. Жена уже легла спать. И тут он видит в дверях знакомую ему большую, грузную фигуру.
Азеф ворвался к Лопухину, нарушая все правила вежливости, «опережая горничную, которая должна была доложить» о его приходе.
О дальнейшем разговоре мы знаем из показаний Лопухина на допросе, состоявшемся год спустя.
По словам Лопухина, Азеф не спрашивал его о разговоре с Бурцевым и не поставил его перед необходимостью лгать. Письмо, написанное Азефом Лопухину по свежим следам разговора, — свидетельство обратного:
«Теперь я знаю категорически и определенно, что Вы не говорили Бурцеву обо мне. Так как я знаю категорически и определенно, что он ссылается на Вас, то для меня ясно, что он говорит неправду, желая потопить меня»[276].
Итак, аристократ Лопухин, видимо, солгал плебею Азефу — а затем еще раз солгал суду.