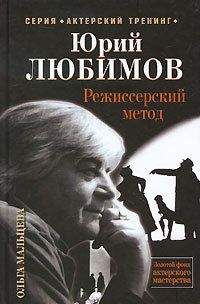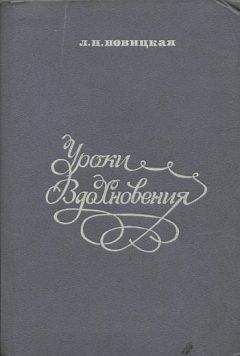В самом деле, если человек должен выполнить ряд четких, точно определенных по роли задач, хотя бы физических, если каждое мгновение его жизни на сцене наполнено ясной целью — не целью вообще, аморфной, литературной, а действенной, до предела конкретной, — то он становится интересным для наблюдения. Переходя от куска к куску, актер заботится о том, чтобы ни одно звено в логике поведения не потерялось, чтобы никогда и нигде не образовался вакуум, столь любимый дилетантствующими в опере артистами, тот самый вакуум, когда исполнители просто наслаждаются своим пребыванием на сцене и могут делать бессмысленные переходы, позировать, производить лишенные всякой целесообразности жесты, словом, «играть».
В связи с этим вспоминаю, как однажды в Горьком, ставя «Ивана Сусанина», я работал с совсем неопытной артисткой над ролью Вани. Мне никак нельзя было довериться ее опыту. Нельзя было понадеяться на то, что тот или иной кусок роли будет сыгран самостоятельно, исполнен на «накате», в общем напоре одного большого куска. Мне пришлось «забить» ее роль многими действиями, выполнение которых организовывало бы ее внимание, придавало поведению энергию и убедительность. После того, как ее роль была проведена на публике и вызвала удивление и восхищение на обсуждении, артистка растерянно сказала: «Все хвалят, но мне все время было некогда играть. Я все время была занята. Делала то одно, то другое, едва успевая. И я не помню, каков был спектакль. Я не поняла себя в роли Вани. Все время надо было что-то делать, делать, делать».
Если роль наполнена действием, в ней нет пустых мест, и есть актерское неудовлетворение оттого, что некогда было «поиграть», — это, по-моему, правильное состояние артиста в спектакле. Самочувствие исполнителя далеко не всегда совпадает с качеством исполнения. Бывает, что актер чувствовал себя в спектакле хорошо, роль удалась, голос звучал, сам он получал наслаждение от творческого процесса, но… окружающие прячут глаза, не хотят обсуждать увиденное.
Бывает и наоборот. Спектакль игрался с трудом, было перенапряжение внимания, какие-то неосознанные тормоза, надо было себя контролировать, мобилизовывать. Самочувствие после такого спектакля плохое, а вокруг все хвалят: «Хорошо, убедительно. Молодец».
Впервые я познакомился с этим феноменом на выпускных экзаменах по актерскому мастерству в ГИТИСе. В пьесе «Враги» я играл Синцова. На генеральной репетиции был, как говорится, сам себе не мил. А в результате — высокая оценка. Иные поговаривали о том, что уж не пойти ли мне на эту роль в МХАТ. На другой день на экзамене я катался в спектакле, «как сыр в масле», многие пришли посмотреть наш экзамен, даже из МХАТа. Когда спектакль заканчивался, я жалел о том, что приходится с ним расставаться, расставаться с таким чудным творческим состоянием. Но… если мне и поставили за этот спектакль приличную оценку, то только по воспоминаниям некоторых членов экзаменационной комиссии о генеральной репетиции. Целый день после этого друзья не смотрели мне в глаза («Ну, учудил!»). «В чем дело?» — спросил я у профессора Раевского. «Самочувствие часто обманывает актера», — ответил он мне.
Так вот, в лейпцигском спектакле я увидел, что актерам некогда, у них не было свободного времени поиграть, «пофигурять» на сцене, показывая больше себя, чем исполняемую роль. Можно сказать, что энтузиазм артистов (всех, включая хор и сотрудников разных рангов и положений), предельная четкость и добросовестность выполнения любых режиссерских заданий переросли в зримую картину высокой художественности. Это был прекрасно, солидно и тщательно оформленный спектакль. Музыкальная сторона была превосходной, хотя дирижер по всем законам вагнеровского спектакля не был виден публике, как, увы, принято в некоторых наших театрах. Яркий, осмысленный спектакль, а не навязчивое мерцание одной, двух, трех звезд, наличие которых предполагает как минимум серый фон, а еще лучше темную-претемную ночь.
Опера шла без купюр — это тоже условие, при котором обеспечивается естественная внутренняя логика целого, без досадных и насильственных разрывов единой системы произведения, когда искусственно нарушаются художественные коммуникации отдельных частей, объединяющихся в цельный, единый образ. В спектакле не было вычурности, поисков приемов, которые должны поразить зрителя неожиданностью, непременной погоней за новым. Если и было что-то новое, так это естественный темперамент событий, предельно органичное действие.
В этом спектакле я познакомился с режиссерским искусством Иоахима Херца и решил пригласить его на постановку в Большой театр. Он ставил у нас «Летучего голландца» Вагнера. Работал темпераментно, эмоционально, организованно. Спектакль получился хорошим. Но режиссерский метод — фиксирование каждого движения артиста, пунктуальное исполнение всего заранее задуманного режиссером, полнейший и точнейший диктат режиссера, который в дальнейшем необходимо оправдать актерской индивидуальностью, стать органичным и естественно необходимым данной сценической ситуации, — не был принят некоторыми русскими артистами.
При всей своей доброжелательности и желании выполнить задание как можно лучше актеры не могли свободно творить в жесткой сетке режиссерских указаний, сковывавших их собственную инициативу. Режиссер ходил с клавиром по сцене и сообщал артистам заранее сделанные в нем пометки. «На второй четверти четвертого такта резкий поворот вправо, а на паузе четвертого такта надо сесть…» Артисты с трудом запоминали подробности режиссерского рисунка, путали, удивленно смотрели на режиссера, глядевшего в клавир, а не в их глаза.
Подобного рода удивление я увидел у немецких актеров, а того более — у ассистентов режиссера, когда я в Лейпциге на первую свою репетицию пришел без клавира и объяснял течение действия и мизансценировку, разглядывая актеров, примериваясь к ним. Естественно, что я был готов менять на ходу технические детали роли в зависимости от индивидуальности артистов. И тогда в многочисленных клавирах сопровождавших меня ассистентов и помощников (каждый по своей специальности!) нервно замелькали резиночки, стирающие намеченное ранее.
Сначала эти резиночки были маленькие, надетые на конце карандаша, но вскоре каждый из коллег запасся большой резинкой, а записи моих первых мизансценических наметок стали делаться тоненькими-тоненькими штрихами в ожидании замены. Впрочем, как московские артисты в конце концов привыкли к Херцу, так и немецкие — к моей манере репетировать.
Но все-таки некоторые актеры Большого театра отказались от участия в постановке немецкого режиссера, чураясь его метода. Что касается отношения ко мне немецких актеров, то о таких отказах я ничего не слышал. Да и позволит ли этакое дисциплина немецкого артиста? Тем не менее я замечал, что в первом моем спектакле полной договоренности, полного доверия, полного взаимопонимания между нами не было. А в постановке «Князя Игоря» Бородина, которую я делал в Берлине в 1978 году, известный певец Н. не смог сдержать своего обещания, данного дирекции, и не спел Игоря. Он прислал мне письмо, полное сожалений и жалоб на то, что болезнь, мол, не позволяет ему… В самом ли деле весь период постановки «Игоря» он был болен? Театральный мир сложен и запутан. Никогда нельзя ни за что ручаться.