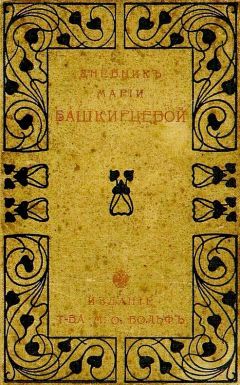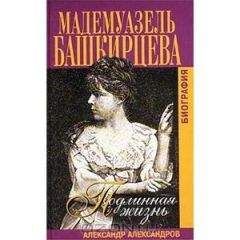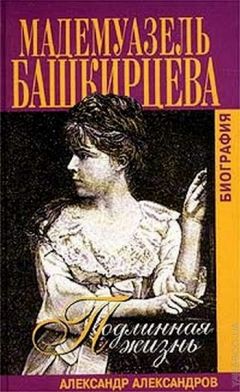Я избалована похвалами (я говорю — избалована — только для формы), а доказательство того, что Р. не лжет, это то, что мне со всех сторон завидуют. И как это ни глупо, но мне это больно. Нужно же чтобы действительно что-нибудь было, если мне каждый раз говорят такие вещи, особенно в виду того, что все это говорит человек такой серьезный и добросовестный, как Р.
Что до Жулиана, то он говорил, что если бы я знала все, что про меня говорят, это вскружило бы мне голову.
— У вас голова бы пошла кругом, m-lle Marie, говорила также женщина, убирающая мастерскую.
Я постоянно боюсь, что мои читатели воображают, что меня хвалят из-за моего богатства. Но ведь это, право, ничего не значит: я плачу не больше, чем другие, а у других еще есть протекции, знакомство, родство с профессорами. Впрочем, когда вы будете читать меня, насчет того, чего я действительна заслуживаю, уже не будет сомнений.
Это так приятно видеть, что вызываешь в других уважение своим личным достоинством.
Р… опять начинает изображать Карлоса; он приходит, начинает расхаживать (он получил большую медаль на всемирной выставке); поправив рисунки, он болтает с нами, закуривает папироску, разваливается в кресле… Мне до всего этого нет дела. Я прекрасно знаю, что он обожает меня, как ученицу, также, как и Жулиан.
Как-то раз шведка стала давать мне советы; тогда Жулиан позвал меня в свой кабинет и стал мне говорит, что я должна слушаться только своего чутья; живопись сначала может быть не пойдет, но я во всяком случае должна оставаться собой, «тогда лишь если вы будете слушаться других, я ни за что больше не отвечаю».
Он хочет, чтобы я попробовала взяться за скульптуру и собирается попросить Дюбуа давать мне указания.
Среда, 16 октября. Это глупо, но мне тяжело от зависти этих девушек. Это так мелко, так гадко, так низко! Я никогда не умела завидовать: я просто сожалею, что не могу быть на месте другого.
Я всегда преклонюсь перед всем, что выше меня: мне это досадно, но я преклоняюсь, тогда как эти твари… эти заранее приготовленные разговоры, эти улыбочки, когда заговорят о ком-нибудь, кем доволен профессор, эти словца по моему адресу в разговоре о ком-нибудь другом, которыми хотят показать, что успех в мастерской еще ровно ничего не означает.
Что безобразно в жизни, так это то, что все это должно со временем поблекнуть, ссохнуться и умереть!
Четверг, 21 ноября. Бреслау написала женскую щечку так хорошо и правдиво, что я женщина, художница-соперница, хотела бы поцеловать эту щечку…
Но… и в жизни часто случается таким образом: есть вещи, к которым не надо подходить слишком близко, потому что только испачкаешь себе, губы и испортишь самый предмет.
Пятница, 22 ноября. Меня начинает пугать будущность Бреслау; мне как-то тяжело, грустно.
Она уже компонирует и во всем, что она делает, нет ничего женского, банального, нескладного. Она обратила на себя внимание в Салоне, потому что, не говоря уже о выразительности ее вещи, она не возьмет какого-нибудь избитого сюжета.
Право, я безумно завидую ей: я еще ребенок в искусстве, а она уже женщина.
Сегодня дурной день; все представляется мне в мрачном свете.
Суббота, 23 ноября. Сегодня вечером я иду еще раз послушать «les Amants de Verone» вместе с Полем и Надиной.
Капуль и Гейльбронн пели и играли удивительно. Партитура раскрывается перед вами, как цветок, по мере того, как вслушиваешься в нее вторично. Нужно будет пойти еще раз. Цветок развернется еще пышнее и распространить чудное благоухание. В этой вещи есть фразы бесподобные, но чтобы оценить их, нужно и терпение, и чутье. Эта музыка не поражает с первого раза, нужно вслушаться, чтобы найти ее тонкую прелесть.
Воскресенье, 24 ноября. Мы были с Надиной в музее древностей. Какая простота и как это прекрасно! О, Греция никогда больше не повторится.
Суббота, 21 декабря. Сегодня — ничего хорошего. Живопись не идет. Я думаю, что мне нужно будет больше шести месяцев, чтобы догнать Бреслау. Она, конечно, будет замечательной женщиной… Живопись не идет.
Ну, полно же, дитя мое! Разве ты думаешь, что Бреслау писала лучше, чем ты по прошествии двух с половиной месяцев? А она к тому же работала над разными natures mortes и гипсами! Шесть месяцев тому назад Робер-Флери говорил ей то же, что сказал сегодня мне:
— Странно, но тон у вас резок и холоден. Надо отделаться от этого. Сделайте-ка одну-две копии.
Не погибла же она после десяти месяцев живописи, не погибать же мне после двух с половиной.
Пятница, 27 декабря. Вся эта неделя пропала для мастерской. Вот уже три дня, — мне все хочется взяться за перо, а я и сама хорошенько не знаю, какие такие размышления я буду записывать. Но настроенная особенным образом пением, доносившимся из второго этажа, я принялась перелистывать мой эпизод в Италии; а потом меня оторвали, и я потеряла нить мыслей и то особенное меланхолическое настроение, которое в сущности довольно приятно.
Что меня поражает в том периоде, так это легкость, с которой я употребляла самые многозначительные слова, для обрисовки самых простых приключений.
Но я действительно искала разных великих чувств: мне было просто досадно, что не было никаких удивительных, потрясающих, романтических чувств, о которых я могла бы рассказывать, — и я интерпретировала свои чувства: художники поймут меня. Все это прекрасно; но каким образом могло случиться, что девушка, считающая себя умной, могла до такой степени плохо оценивать истинное значение людей и событий. Я говорю об этом, потому, что, чуть было не сказала вместо того, что мои родители должны были бы мне объяснить, сказать, что А… вовсе не был серьезным человеком, ни вообще человеком, достойным каких бы то ни было страданий. Надо сказать правду: мне толковали обо всем этом совершенно наоборот, потому что моя мать еще моложе меня… Но обо всем этом уж нечего и говорить, потому что я сама, будучи столь высокого о себе мнения, должна была бы проникнуть в его сущность и отнестись к нему совершенно так же, как ко всем другим, вместо того, чтобы уделять ему такое большое место в этом журнале и во всем.
Но я горела желанием описывать романы, а между тем… до чего я была глупа! Все это могло бы быть еще гораздо более, романтично… Словом, я была молода и неопытна, сколько бы я там ни разглагольствовала и ни мудрила; вот, в чем нужно наконец сознаться, как бы это ни было неприятно.
А между тем мне уже слышатся слова: такая сильная женщина, как ты, не должна была бы давать повода к подобному самоосуждению…