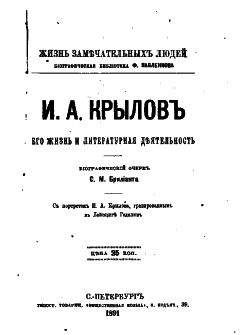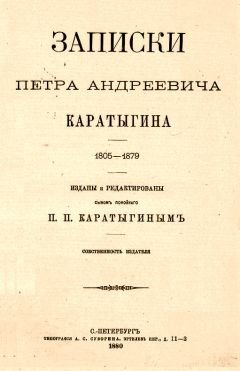— Как что? Разве не видите? Это часы!
— Часы? А какие часы? Золотые?
— Нет… серебряные.
— Значит вы меня обманули, ограбили… Они ровно ничего не стоят, грош им цена… Давайте назад мои сто целковых…
— Да я ваши деньги уже извел без остатка…
— Извел?! Ах, вы губитель!
— Да вы, добрейший Федор Константинович, о чем убиваетесь-то? Что вас тревожит?
— Ну, не азиат ли вы? Заложили их мне за сто целковых, а им, оказывается, никакой цены нет.
— Это правда: они бесценны.
— Да вы еще никак и смеетесь?!
— Говорю совершенно серьезно. Часы эти для меня страшно дороги, это единственная память о моем покойном деде… Вы спрячьте их подальше и относитесь к ним с таким же почтением, как я…
— Но ведь вы меня обманули?
— Нисколько. Их драгоценность я вам уже пояснил, и вы должны понять, что действительно эти часы необыкновенные…
В конце концов, разумеется, Смольков так ни с чем и остался. Милославский уехал из Нижнего и вскоре забыл про свой «драгоценный» залог… Про эту проделку Николая Карловича говорили двояко: одни уверяли, что он собственноручно подправил на почтовой повестке цифру 20 на 200, дригие — сообщали, что этот заем у нижегородского антрепренера им был предусмотрен заранее, и он послал в Нижний дрянненькие часишки самому себе, оценив их чуть не в пятьдесят раз более их настоящей стоимости.
Ловкость, сообразительность и находчивость Николая Карловича очень рельефно выразились в Самаре «па кумысе», где одно время проживал чуть ли не для поправления здоровья, а, может быть, и просто для отдыха. «На кумысе» существовала лотерейная лавочка, уставленная различными, очень дорогими и очень дешевыми вещами, с привешенными к ним нумерами. Все они разыгрывались, и ни одна из них не продавалась. Торговля билетами постоянно была бойкая, однако ни одному пробовавшему счастье не удавалось никогда выиграть ничего цепного. По какому-то секрету изобретателя лучшие предметы оставались все время неприкосновенными и ни один из них не выпадал ни на чью долю. Милославскому приглянулись две роскошные вазы, и он стал на них засматриваться. Несколько раз сам брал билеты, следил за другими бравшими и крайне удивлялся, что заинтересовавшие его вазы никому не достаются. В конце концов он понял мошенничество торговца и задумал его перехитрить, решившись выиграть прельстившие его вещи во что бы то ни стало. Заметил он нумер, красовавшийся на них, сделал собственноручно лотерейный билет и явился в лавочку в то время, когда в ней толпилось много публики. Дождавшись своей очереди, полез он в колесо и к общему изумлению достает номер ваз. Торговец сперва смутился, потому что лучших-то номеров в колесо у него не было положено, но потом поспешил оправиться и выдал Милославскому выигрыш.
— Наконец-то! — сказал Николай Карлович. — Долго же этот счастливый билет никому у тебя не доставался.
— Да с вы счастливчик…
— Да еще какой! Вот погоди, все лучшие вещи я у тебя отберу.
Захватил «счастливец» вазы и отправился домой. Не успел он отойти от лотерейной лавки и десяти сажен, как нагоняет его торговец и говорит:
— Г. Милославский, мне не жаль ваз, но скажите, пожалуйста, как вы их выиграли?
— Очень просто: заплатил вам двугривенный, полез в колесо и вытащил из него десятый нумер.
— Не может этого быть?
— Почему?
— Потому что, признаюсь вал откровенно, этого нумера у меня в колесе не было.
— Откровенность за откровенность! Так уж и быть, тоже признаюсь: этот нумер я сам сделал.
— Но ведь это подлость!
— А е твоей-то стороны разве не подлость выставить на соблазн хорошие вещи и не пустить их в лотерею?!
— Я про лих случайно забыл.
— Ну, а я тебе умышленно о них напомнил.
Милославский был очень остроумен. В особенности же неистощим он был на сцене, где вел себя совершенно запросто, по-домашнему. В известной мелодраме «Графиня Клара д'Обервиль» он постоянно играл героя Жоржа Морица. Во время его гастролей, кажется в Саратове, роль доктора Жереро поручили одному из маленьких, неопытных актеров. В пятом акте Жоржу-Милославскому объявляют о приходе доктора. По ремарке он идет к нему на встречу и, при выходе того на сцену, произносит:
— Вы удивлены, добрый мой доктор, что видите меня па ногах? и т. д.
Милославский же выдумал игру на паузах. Встречает он доктора в глубине сцены, схватывает его за руки и дружески пожимает их.
Неопытный актер с чего-то оробел. Ему показалось, что Николай Карлович не знает роли и не слышит суфлера. Он преисполнился храбрости и, чтобы скрасить мнимо-неловкую паузу, брякнул невпопад:
— Здравствуйте, доктор!
Милославский ухмыльнулся. Потом спокойно вывел его на аван-сцену и спросил:
— Вы практикуете где? Не в лечебнице для душевнобольных?
Актер растерялся окончательно. Милославский же продолжал, разглядывая в упор застенчивого доктора:
— Вы сказали мне: «здравствуйте, доктор!», а ведь по афише-то вы сами доктор и есть, а я Жорж Мориц, ваш пациент… Однако, приступим к разговору по пьесе, — закончил Николай Карлович и тотчас же вошел в роль словами: «вы удивлены, добрый мой доктор», и т. д.
Во время этой импровизированной сцены публика хохотала до истерики и после того не могла равнодушно взглянуть на несчастного доктора Жереро. Каждое его появление возбуждало в зрительном зале неудержимый смех, В том же акте, в самом патетическом месте, когда Жорж умирает, выходит опять на сцену доктор. Публика, до его появления чуть не рыдавшая над трогательным положении героя, вдруг начинает проявлять веселость, и вскоре стал слышаться довольно откровенный хохот.
Милославский взглянул на сконфуженного доктора и подозвал его к себе. Тот послушно подошел.
— Милый доктор! торжественно сказал ему Николай Карлович, не выходя из тона своей роли. — Я знаю ваше доброе сердце. Я знаю, что вы не откажете просьбе умирающего человека. Не правда ли? Ведь да?
— Да, да, — поспешил согласиться доктор, недоумевающе смотря на Милославского.
— Уйдите вон… Оставьте меня умереть спокойно!..
Нечего и прибавлять, что весь театр разразился долго несмолкавшим смехом, а несчастный актер удалился за кулисы, потому что дальнейшее его пребывание на сцене уже внушало опасность. Очень легко могло случиться, что спектакль не окончился бы, благодаря демонстративной веселости зрителей.
В подтверждение его «простоты отношений» на сцене можно привести еще такой анекдот, имевший место опять таки у приснопамятного Федора Константиновича Смолькова. Милославский часто жаловался ему, что слишком холодно в театре и в уборных. Смольков, соблюдавший экономию на дровах, всегда отвечал Николаю Карловичу, что «вот соберется публика — будет тепло».