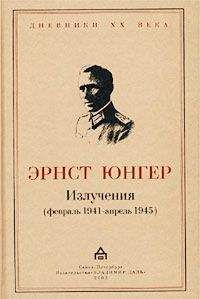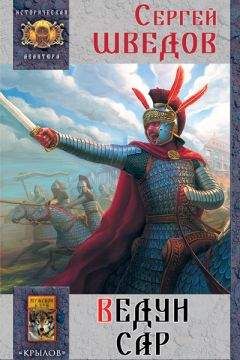В Тюильри цвел махровый мак-самосейка; проходя мимо, я подумал, до чего же удачно это название передает сущность самого цветка. Оно показывает яркость, броскость окраски и хрупкость лепестков, разлетающихся от единого дуновения. Это касается всех настоящих слов: они сплетены из срастающихся значений, из переменчивого материала. Уже поэтому я не разделяю страха перед образами, свойственного Мармонтелю{196} и Леото, как и взглядов на перспективу развития этимологии. Слово написанное или произнесенное похоже на удар колокола, далеко вокруг себя приводящий воздух в колебание.
Париж, 23 мая 1944
После полудня объявили смертный приговор генералу Зейдлицу, зачитанный в его отсутствие. По-видимому, его деятельность наполняет Кньеболо беспокойством. Может быть, и у русских есть генерал, аналогичный нашему Нидермайеру. Одновременно было зачитано верноподданническое послание войсковых фельдмаршалов, обращенное к Кньеболо и выдержанное в обычных выражениях. Кажется, это Гамбетта спросил: «Вы когда-нибудь видели храброго генерала?» Любой маленький журналист, любая маленькая пролетарка выказывает больше храбрости. Отбор происходит только по умению держать язык за зубами и выполнять приказы; немалую роль играет и достаточная степень дряхлости. Такое терпимо, пожалуй, еще только в монархиях.
Вечером у мадам Дидье, скульптура продвигается. У меня снова было ощущение прометеева, демиургова генезиса, в коем крылось что-то зловещее, особенно в разминающих, разглаживающих движениях, когда материя формируется как бы заклинаниями. Художник ближе всех подходит к великим космическим силам созидания, и они суть его символы, в мирах могил и развалин все еще творящие для той жизни, которая когда-то полнилась соком.
Париж, 25 мая 1944
Визит Веплера, бывшего здесь проездом. Снова говорили о смерти Огненного цветка. Друзья — старый и молодой — той, которая увяла, ушла в небытие. Ее смерть и сблизила нас.
Париж, 26 мая 1944
Ранним утром отъезд в Сиссон. Я не был там с 1917 года. В Лаоне привокзальные кварталы разрушены недавней бомбардировкой, но собор и верхний город почти не повреждены. Города и дороги судьбы, по которым мы все время ступаем, — в какую фигуру вписано наше блуждание по сей земле? Может быть, в петли и цветы причудливой формы?
Мы отправились на плац, поскольку в одном кавказском батальоне произошли неполадки. Для поездки воспользовались газогенераторной машиной, с печкой сзади. Время от времени мы останавливались, чтобы добавить дров, и из-за низко летающих бомбардировщиков проделывали это в надежном укрытии. Сгоревшие автомобили, валявшиеся по краям дороги, обостряли нашу бдительность. Да и пулеметы, которые мы теперь всегда во время подобных поездок держали между колен, свидетельствовали о том, что стало неспокойно.
Я должен пересмотреть свои максимы; мое моральное отношение к людям становится все напряженней. В частности, к батальонному командиру, заявившему, что первого же пойманного дезертира выведет перед строем и «расправится» с ним собственноручно. При таких встречах меня охватывает чувство, похожее на тошноту. А надо бы достигнуть такого положения, откуда подобные вещи можно рассматривать так, как рыб в коралловом рифе или насекомых на лугу, или как врач осматривает больного. Прежде всего следует уяснить, что подобное имеет силу только в низшем чине. В моем отвращении к этому проявляется еще слабость, причастность к красоте мирской. Нужно разглядеть логику насилия, стараясь уберечь себя от украшательства в стиле Милле или Ренана, но в той же мере — и от гнусной роли бюргера, из надежного укрытия поучающего своих партнеров по чудовищной сделке. Кто не втянут в конфликт, должен благодарить Бога, но именно поэтому он еще не имеет права взять на себя роль законного судьи.
Это занимало мои мысли, пока я стоял рядом с Реезе, обращавшимся с воззванием к чужим солдатам. Они окружили нас четырехугольником, в немецких униформах, на рукавах которых светились знаки отличия рода войск. Какая-то мечеть с двумя минаретами и надписью «Биц Алла Билен. Туркестан». Реезе говорил медленно, короткими фразами, и их тут же переводил толмач.
Наша позиция посреди этого четырехугольника показалась мне странной, как на шахматной доске с разумно расставленными ходами, не без участия этнографических тонкостей.
Мы разделили трапезу с немецкими офицерами, производившими впечатление то ли техников, то ли полководцев наемных войск, — восемнадцатый и двадцатый век сливаются в псевдоморфозы, с трудом поддающиеся классификации. Где ветшает теория, там является чистая сила. Военного суда не существует; жизнью и смертью распоряжаются командиры. С другой стороны, они все время должны учитывать, что в одну прекрасную ночь вместе со своими офицерами будут убиты, если их команда дезертирует.
В Бонкуре мы выпили по рюмке водки с русскими ротными командирами, а туркестанцы и армяне расселись широким кругом. Они часами, под монотонное пение, просиживали на корточках; время от времени в круг впрыгивали одиночные танцоры или пары, до изнеможения отдаваясь танцу.
Между делом мне удалось на полчасика выбраться на мелкую охоту. Впервые в естественных условиях я встретил сине-зеленую Drypta dentata, существо изысканной элегантности. Имя ему дал в 1790 году итальянец Росси, врач из Пизы.
Париж, 27 мая 1944
Воздушные тревоги, налеты. С крыши «Рафаэля» я дважды видел, как в направлении Сен-Жермен поднимались мощные облака взрывов, а эскадрильи на большой высоте удалялись. Их мишенью были мосты через реку. Способ и последовательность направленных против их продвижения мероприятий указывают на чью-то умную голову. Во время второго налета, при заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавала клубника. Город со своими красными башнями и куполами был окутан чудным великолепием, подобно чашечке, для смертельного оплодотворения облепленной насекомыми. Все было спектаклем, явлением силы как таковой — утвержденной и возвышенной страданием.
Париж, 28 мая 1944
Троица. После завтрака закончил Откровение, завершив тем самым первое цельное прочтение Библии, начатое 3 сентября 1941 года. До этого я читал только отдельные части, среди них и Новый Завет. Эти усилия я ставлю себе в заслугу, особенно потому, что они зиждятся на самостоятельном выборе и должны были сломить некоторое сопротивление. Мое воспитание шло в противоположном русле; с ранней юности мое мышление определялось педантичным реализмом и позитивизмом моего отца. Этому способствовал и каждый учитель, имевший на меня влияние. Учителя Закона Божия были большей частью скучны; слушая некоторых, я испытывал чувство, что их смущает сам материал. Холле, наиболее умный из них, высказал догадку, что явление Христа на водах следует объяснить оптическим обманом, — та местность славится своими туманами. Наиболее интеллигентные приятели, книги, которые я ценил, были настроены на тот же лад. Была некая необходимость в прохождении такого курса, и следы его навсегда останутся во мне. Прежде всего потребность в логическом доказательстве — я имею в виду не доказательность, а свидетельство и близость разума, должного присутствовать во всем. Цели могут быть только впереди. Это отличает меня от романтиков и освещает мои поездки по верхним и нижним мирам: в моем космическом корабле, в котором я ныряю, плыву, лечу, которым я рассекаю огненные миры и призрачные пространства, меня всегда сопровождает прибор, своей формой обязанный науке.
Париж, 29 мая 1944
Экскурсия в Trois Vallees. Был жаркий, сияющий день. До чего же хорошо было в тихой чаще, под листвой кустов, через которые светилось безоблачное небо: реально осязаемое. «Остановись — —».
Глицинии и то, как их древесные извивы поглощают прутья садовых решеток. Глаз моментально схватывает отлитую за десятилетия субстанцию.
Огненная оса Chrysis на серой стене, с металлической шелково-зеленой грудкой и ярко-малиновым задком. Кажется, что такое существо собирает солнечные лучи, как фокус зажигательного стекла. Оно живет, укутавшись в нежные, колышущиеся жаркие волны.
Древесные лягушки и перезвон кос, побуждающий их к хоровому пению.
«Он хотел оседлать скрипку», — изречение, обозначающее высокомерие.
Вечером у президента. В эти Тро́ичные дни здесь, во Франции, под бомбами погибло пять тысяч человек. Одна из бомб попала в переполненный поезд, пассажиры которого ехали в Мезон-Лаффит на скачки.
Президент рассказал мне об одном ефрейторе, одержимом страстью к экзекуциям. Обычно он целится в сердце, но если подрасстрельный ему не по нраву — в голову, разнося ее на куски. Это признак недочеловека: желание украсть у ближнего лицо, стремление к дефигурации, к искажению.