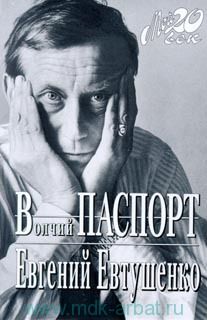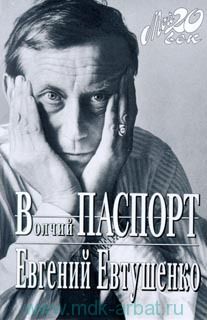А когда я оказался на сцене рядом с гением и Шостакович взял мою руку в свою, — сухую, горячую, — я все еще не мог осознать, что это реальность… Но совсем другие — липкие руки были еще впереди… Собственно говоря, и мой путь на эту консерваторскую сцену лежал сквозь те же липкие руки.
— А цей хлопчик не еврей?
— Та ни, не еврей…
— Шо ж вин тоди у своий автобиографии на Бабий Яр наполя-гае? Це дило треба розжуваты… — со следовательской задумчивостью вертел в жирных пальцах дородный дядя, которому подошел бы забрызганный кровью фартук мясника, автобиографию молодого журналиста Анатолия Кузнецова, вытащенную из его личного дела.
Разговор происходил в кабинете каховской многотиражки в 1952 году. Редактор был смертельно перепуган и услужливо открыл сейф по требованию двух приезжих письменников, заподозривших в Кузнецове еврейское происхождение из-за его «нездорового» интереса к Бабьему Яру.
Это были цыганистый секретарь одесского Союза писателей и главный редактор одного из киевских издательств — очень любивший читать собственную лирику, неожиданно тоненьким для своей комплекции голосом, умильно закатывая глаза. Но сентиментальность и злодейство, к сожалению, есть вещи совместимые.
Привычный ужас той эпохи состоял в том, что рытье в чужих анкетах и вынюхивание из них подозрительных запахов вовсе не считалось злодейством, а было тогдашним бытом.
Письменники целый день пили горилку и играли в карты, проводя таким образом творческую командировку на «стройку коммунизма», а по вечерам их разъедала смертельная скука и хотелось найти кого-то, над кем можно было бы поизгаляться. Тошнотворная пустота внутри — главная причина изгаляний людей над людьми.
Я предупредил тогда Кузнецова, что под него «подкапываются».
— А ты что, правда, был в Бабьем Яре? — спросил я.
Впервые об этой трагедии я узнал еще мальчишкой из прекрасного, к сожалению, полузабытого стихотворения Льва Озерова сорок четвертого года:
Я пришел к тебе, Бабий Яр,
Значит, возраст у горя есть —
Значит, я немыслимо стар —
На столетья считать — не счесть.
— Нет, я там не был… — мрачно ответил Кузнецов, затравленно опустив глаза. — Но я видел, как это все было…
Мы сидели на берегу, и Кузнецов рассказывал, рассказывал… Уже смеркалось, но мне казалось, что в тумане, медленно опускающемся на Днепр, я вижу бесконечные тени детей, женщин, стариков, идущие по воде, не прогибая ее…
— Ты должен написать об этом, — сказал я Кузнецову.
— Кто это будет печатать… — пожал он плечами. — А кроме того… я… я… боюсь…
Как впоследствии подтвердилось, он был прав в боязни писать об этом… Кузнецова не убили в Бабьем Яру, — его убил собственный роман о Бабьем Яре. Роман напечатали, но он был зверски искромсан цензурой.
По-моему, у Кузнецова в результате издевательства над его любимым детищем что-то случилось с головой. Аксенов мне рассказывал, что однажды он ночевал у Кузнецова и тот послал к нему с подносом, уставленным напитками, собственную жену, на высоких каблуках и в чем мать родила. Когда меня и Аксенова вывели из редколлегии «Юности», туда почему-то спешно ввели Кузнецова и столь же спешно командировали для работы над романом об Энгельсе в Лондон, где он и сбежал, прихватив пару микрофильмов: один — с полным текстом романа «Бабий Яр», а другой — с какими-то эротическими доморощенными арабесками. Затем, видимо пытаясь вызвать жалость к своей судьбе, Кузнецов напечатал в «Обсервере» «Исповедь доносчика», где признался, что строчил доносы в КГБ на советских братьев-писателей — в том числе
и на меня. Однако это вызвало не жалость, а презрение его западных коллег. Через несколько лет он трагически погиб в автокатастрофе. Жаль, что так некрасиво и нелепо закончилась жизнь этого талантливого писателя. Но я ему все равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привел меня к Бабьему Яру.
А тогда, в 1952 году, приглашенные Александром Довженко, писавшим в Каховке гигантский романтический сценарий все о той же стройке коммунизма, Кузнецов и я — пошли вместе с великим режиссером на японский фильм новой волны. Названия фильма не помню. Это была близкая к «Похитителям велосипедов» история многодетной семьи в Токио, отец которой никак не может найти себе работу. Они с женой решают отравить газом и себя, и детей. Перед этим они продают последнее, что у них осталось, и ведут детей в парк — покатать на качелях, на лодке. Неожиданно мальчик срывается в воду, и отец его спасает. После этого великий кинорежиссер, не дожидаясь конца, направился к выходу, громогласно заявив на весь зал:
— Эго так гениально, что я не могу этого больше видеть. Мне стыдно за всю мою жизнь.
А я испытал нестерпимый стыд в 1961 году. Тогда, впервые встав на обрыве перед Бабьим Яром рядом с Кузнецовым, вызвавшимся быть моим гидом, я потрясенно увидел, что там нет никакого памятника, ни даже какого-либо знака. Бабий Яр был превращен в свалку. Начало стихотворения выдохнул ось само: «Над Бабьим Яром памятников нет…»
Мои многие стихи начинались именно со стыда. Чаще всего — со стыда за себя.
Стыдиться только за других — гораздо комфортабельней.
В случае с Бабьим Яром для моего стыда была особая причина.
Я рос в семье, где никогда не слышал еврейских анекдотов, за исключением тех случаев, когда их рассказывали мамины приятели-евреи, любившие подшучивать сами над собой. На станции Зима бок о бок мирно существовали и православное, и католическое, и еврейское кладбища…
Впервые слово «жид» я услышал в Москве. «Как ты можешь сидеть на одной парте с жидом?» — спросил у меня один хмырь-третьегодник. Когда я переспросил его: «Что это такое?* — он, наверно, подумал, что я притворяюсь.
В Москве мама брала меня с собой в Еврейский театр на Малой Бронной, и я трижды видел на сцене великого Михоэлса — дважды в роли короля Лира и один раз — Тевье-молочника. Я влюбился в него. Мама взяла меня на похороны Михоэлса, когда его тело привезли из Минска.
— Дело нечисто, — показывая глазами на гроб, шепнула маме какая-то ее знакомая, но я это услышал. Еще я запомнил, что у выступавшего на панихиде Фадеева был неестественно тонкий голос, не совпадавший с его высоким ростом и благородной сединой. Он еле закончил свою речь, прерываемую дребезжащими всхлипываниями.
Надвигалось что-то страшное.
В 1952 году, когда я поступил в Литинститут, там было только два еврея — пылкий юноша-публицист и саркастическая девушка-критик.
У них никогда не было романа, но они всегда гуляли по литин-ститутским коридорам и по нашему скверику под ручку, перешептываясь, как две нежные подруги. Пылкий юноша-публицист со слегка пушистыми, всегда готовыми воспламениться щеками, был даже больше похож на девушку, а она напускала на себя врубелев-ский демонизм, попыхивая папиросой, так не сочетавшейся с ее белым шелковым бантом. В тот год у них были особые причины перешептываться.
Закрыли несколько аптек, из них увольняли евреев-фармацев-тов, по городу носились слухи о том, что надо быть осторожней с лекарствами, печатались пованивающие фельетоны, Шолохов выступил против псевдонимов, по рукам ходила пародийная поэма Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо» — настолько откровенно антисемитская, что ее даже не решились напечатать. Психоз не просто распространялся как эпидемия, — он насаждался. Когда в «Правде» напечатали сообщение об аресте врачей-от-равителей, я увидел, что пылкий публицист и девушка-критик стоят одни, словно зачумленные, в литинститутской курилке. Их не трогали. Их не оскорбляли. На них смотрели.
Я пересек невидимую линию и пригласил их вместо занятий в соседнюю шашлычную. Там они разрыдались оба от страха и унижения.
Через лет сорок я позвонил тому же самому — и ныне пылкому публицисту, проверяя свои воспоминания. *
— Помнишь, как ты плакал в шашлычной, когда арестовали врачей? — спросил я.
— Конечно, помню… — ответил пылкий публицист.
— Но вскоре после этого, если мне не изменяет память, ты стоял на трибуне в актовом зале Литинститута на фоне портрета Сталина с траурной каемкой и тоже плакал? — спросил я осторожно.
— Все это так… — ответил он, слегка улыбаясь. — Но я так же прекрасно помню, что на этой самой трибуне в тот день стоял ты и тоже плакал…
— Не может быть… — сказал я, растерявшись. — Почему же я этого не помню?
Проверяя те же самые воспоминания, я позвонил и бывшей девушке-критику.
— Слушай, мне сказали, что я выступал в марте пятьдесят третьего на траурном литинститутском митинге и плакал. Ты это помнишь? — спросил я.
— Как сейчас, — не без удовольствия сказала она. — Плакал почти булыжниками.