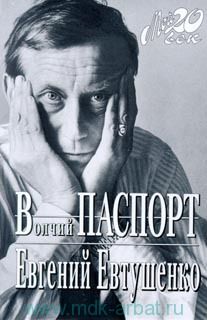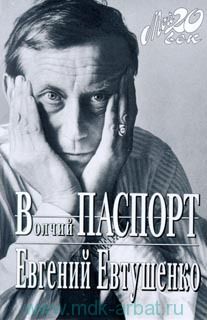— Все это так… — ответил он, слегка улыбаясь. — Но я так же прекрасно помню, что на этой самой трибуне в тот день стоял ты и тоже плакал…
— Не может быть… — сказал я, растерявшись. — Почему же я этого не помню?
Проверяя те же самые воспоминания, я позвонил и бывшей девушке-критику.
— Слушай, мне сказали, что я выступал в марте пятьдесят третьего на траурном литинститутском митинге и плакал. Ты это помнишь? — спросил я.
— Как сейчас, — не без удовольствия сказала она. — Плакал почти булыжниками.
— Кстати, я хочу проверить — вас было всего двое евреев тогда в Литинституте?
Тут она меня ошеломила.
— А с чего ты взял, что я еврейка?
Я так и поперхнулся, потому что я прекрасно знал ее маму, Розалию Ароновну, за которой даже безуспешно пытался приволокнуться, и ее родного дядю Якова Ароныча.
Да, все мы бываем очень талантливы, когда забываем то, что не хотим помнить. Вот какая хитрая стервоза наша память и как она избирательна. Поэтому всем мемуарам, в том числе и этим, надо верить — ну, как бы это мягче сказать — «с допуском».
Есть, конечно, мелочи, есть стыды маленькие, но есть и Главные Стыды.
Их мы не должны забывать, даже если бы нам этого очень хотелось.
Я презираю тех, кто пытается перечеркнуть поколение шестидесятников. Как правило, это от зависти к сделанному нашим поколением. Но идеализировать нас тоже нельзя. В нас было все изначально перепутано, и другими мы быть, наверно, не могли.
Несмотря на брезгливость с детства к антисемитизму, я все же поверил тому, что врачи хотели-таки отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи.
К счастью, у меня был Домик Совести. Он находился в Кривоколенном переулке, и в нем когда-то жил поэт Веневитинов. А в 1953 году там жила семья Барласов, сыгравшая огромную спасительную роль в моей жизни: отец — бухгалтер почтамта, мать — фармацевт, сын — геофизик и критик Владимир Барлас, будущий автор первой крупной статьи обо мне, и его жена Лида, тоже геофизик. Они были, как правило, первыми слушателями многих моих стихов. Не изменил я своей традиции и на этот раз, с чувством продекламировав им такие перлы, как «Никто из убийц не будет забыт. Они не уйдут, не ответивши. Пусть Горький другими был убит, убили, мне кажется, эти же…»
На какой-то момент воцарилось тягостное молчание. Потом мать семьи, которая была обычно самая молчаливая, сказала мне с болью:
— Что они делают с вами, нашими детьми… Женя, ведь это все неправда… Эти врачи ни в чем не виновны. Забудьте эти стихи. Не показывайте их никому. А то не дай Бог, их напечатают. Вы же потом никогда не отмоетесь…
Впоследствии я включил этот эпизод в фильм «Похороны Сталина». Меня уговаривали не делать этого, чтобы «не подставляться». Но я сделал это сознательно. Не только для «очистки совести». Этот горький урок может пригодиться. Пусть будущие поэты будут осторожней, когда станут писать «гражданские стихи*.
Можно оказаться жестоко наказанным, и, как говорила мама Володи Барласа, «потом никогда не отмоешься*.
Но, может быть, благодаря тому, что я не уничтожил в своей памяти стыд за то стихотворение, этот стыд и стал соавтором моего «Бабьего Яра»?
4. Сцена, стоящая на крови
«Бабий Яр» я закончил поздним вечером, после того, как побывал на том страшном месте, и немедленно позвонил в Москву Александру Межирову, прочел по телефону.
— Это нельзя печатать, — сказал он. — Там все спрямлено. Все гораздо сложнее… Ты опозоришься на весь мир.
— Да, там все спрямлено. Но об этом надо заговорить Может быть, именно так прямо. И сейчас, а не завтра, — сказал я — Я готов опозориться на весь мир…
Тем же вечером в киевском ресторане я прочел эти Стихи друзьям своей юности Ивану Драчу, Ивану Дзюбе, Виталию Коротичу, запоздало пришедшему к нам прямо с дежурства в госпитале. Им это понравилось — тогда мы все понимали друг друга с полуслова.
У меня готовился вечер в Октябрьском зале на Крещатике, и по Киеву пошли слухи о том, что я написал стихи о Бабьем Яре — эта тема тогда была почти запретной.
Что являлось психологической причиной замалчивания? Боязнь напомнить о преступлении, в котором были замешаны и украинские полицаи. Нежелание вызвать сочувствие к евреям. Вдруг они снова смогут понадобиться для очередного выброса накопившегося озлобления? Антисемитизм, унаследованный от царизма, был секретной политикой партии, чьим гимном парадоксально был «Интернационал».
Одна из самых смешных и одновременно грустных фотографий на свете — это снятый где-то в Америке зажатый, мрачный Косыгин в головном уборе индейского вождя из орлиных перьев, затравленно заявивший на пресс-конференции, что никакого еврейского вопроса в СССР нет и что даже некоторые его личные друзья — евреи.
Он обиделся, не поняв, почему журналисты начали смеяться. Вряд ли его помощники осмелились ему объяснить, что именно этот аргумент насчет «личных друзей» используют американские расисты.
Мой предстоящий вечер киевские власти сначала хотели вообще отменить. Мне пришлось нанести визит в отдел культуры ЦК Украины и возмущенно заявить, что я буду расценивать это как неуважение к русской поэзии. Меня принялись уверять, что никто мой вечер не собирался запрещать, но саботаж продолжали.
Афиши напечатали, но не расклеивали.
Учительница литературы одной из киевских школ и ее ученики взяли расклейку на себя. Однако мои афиши чьи-то ловкие руки заклеивали сверху другими.
Тем не менее зал был переполнен.
Тогда я еще не знал, что под сценой Октябрьского зала, находящегося на холме, скрыты тайные подвалы КГБ, где было замучено столько людей.
Какой парадокс истории, что стихи о безвинно пролитой крови я читал, стоя на сцене, которая сама покачивалась, как плот, на крови, пролитой нашими отечественными фашистами.
5. Кто-то, кто назвал себя Шостаковичем
В конце марта 62-го года раздался телефонный звонок.
Подошла моя жена Галя.
Вернулась довольно раздраженная.
— Вечно тебе звонят какие-то наглецы. Сейчас позвонил кто-то, назвал себя Шостаковичем… Почему к тебе прилипает столько проходимцев?
Звонок повторился.
Она подошла снова.
Из трубки раздался вежливый голос:
— Простите, мы с вами не знакомы, но это действительно Шостакович. Если хотите, запишите мой телефон и проверьте… Скажите пожалуйста, Евгений Александрович дома?
— Дома. Работает. Я его сейчас позову.
— Работает? Зачем же его отрывать?.. Я могу ему позвонить в любое другое время, когда ему будет удобно…
(В этом был весь Шостакович. Он понимал, что такое работа. Как непохожа тактичность истинного гения на бестактность некоторых молодых кандидатов в гении, врывающихся иногда в квартиру или на дачу с требованием немедленно прочесть их стихи и не обращающих даже внимания на то, что в твоей семье кто-то болен или ты по горло занят сам…)
Побледневшая жена протянула мне трубку на длинном шнуре, как драгоценность, и прошептала:
— Кажется, это действительно он…
Я был, конечно, тоже взволнован.
Шостакович разговаривал со мной смущенно и сбивчиво, в своей старомодно вежливой манере:
— Дорогой Евгений Александрович, я прочитал ваше стихотворение «Бабий Яр», и оно глубочайше тронуло меня. Не будете ли вы так добры и не дадите ли ваше милостивое разрешение сочинить на эти стихи одну… одну… я даже не знаю, как выразиться… одну штуку…
— Конечно… разумеется… Я буду только счастлив… — что-то невразумительно лепетал я.
— О, как я благодарен вам за ваше любезное разрешение… — продолжал Шостакович. — А вы не могли бы приехать ко мне сейчас? Эта штука… эта штука… ну, в общем, она уже готова…
Нечего и говорить, что мы с женой немедленно поехали к
нему. Он проиграл нам и спел только что законченную вокальносимфоническую поэму «Бабий Яр».
Потом он сказал:
— Вы знаете — я чувствую, что это надо расширить, углубить. Когда-то я написал одно произведение о страхах… О наших страхах, отечественных… А мою музыку стали интерпретировать, перенося весь акцент на гитлеровскую Германию. У вас нет еще каких-нибудь других стихов — например, о страхах? Для меня ведь это уникальная возможность высказаться не только при помощи музыки, а при помощи ваших стихов тоже. Тогда уже никто не сможет приписывать моей музыке совсем иной смысл…
Я подарил ему мою книжку «Взмах руки», а вскоре написал стихи «Страхи», к сожалению изуродованные цензурой в журнале «Москва», из-за чего две плохие строфы, до сих пор мучающие меня, попали в руки Шостаковича, да так и остались в его гениальной музыке, хотя в книжных изданиях я их беспощадно выбрасываю.
Бывшая вокально-симфоническая поэма неостановимо начала разрастаться в симфонию. 5 июля Шостакович закончил «Юмор». 9 июля — «В магазине». 16 июля — «Страхи». 20 июля — «Карьеру».