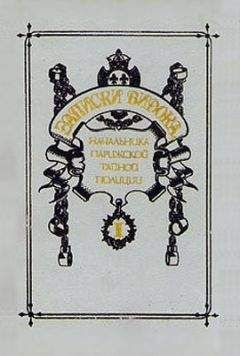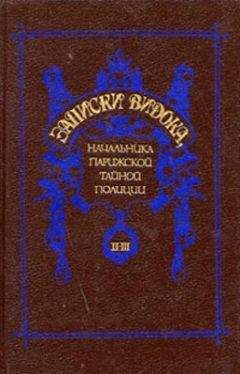— А вот узнаешь, — ответил я.
Во-первых, я потребовал полную пару платья, которой я снабдил его месяц тому назад; он возвратил ее; кроме того, я велел дать себе шляпу, сапоги, рубашку. Все эти вещи были куплены на мои средства, и это было лишь возвращение по принадлежности. Шевалье исполнил мои требования, не прекословя. Я по глазам его видел, что он замышляет какой-то план, может быть, он нашел средство дать знать соседям, что он тяготится моим присутствием: благоразумие заставило меня подумать о своей безопасности на случай ночного обыска. Окно, выходившее в сад, было снабжено двумя железными перекладинами; я велел Шевалье вынуть одну из них, и так как он повиновался крайне неохотно, то я сам принялся за дело, и он даже не заметил, как нож перешел в его руки. Когда я окончил дело, я снова схватил свое оружие.
— Теперь, — сказал я, обращаясь к нему и к испуганным женщинам, — ступайте спать.
Что касается меня, то мне было не до сна; я бросился на стул и провел на нем самую ужасную ночь. Все превратности, испытанные мной в жизни, промелькнули в моем соображении; я не сомневался в том, что надо мной тяготеет проклятие, напрасно я бежал от порока, порок нагонял меня, и какая-то роковая сила, которой я противился со всею энергией своего характера, как будто издевалась надо мной, разрушая все мои планы и постоянно подвергая меня ужасным треволнениям.
На рассвете я разбудил Шевалье и спросил его, есть ли у него деньги. На его ответ, что у него только несколько серебряных монет, я велел ему тотчас же взять четыре серебряных прибора, недавно подаренных ему мною же, и, захватив вид на жительство, последовать за мною. Собственно говоря, я в нем не нуждался, но было бы опасно оставить его дома, он мог дать знать полиции и направить ее на мои следы, прежде нежели я успел принять предосторожности. Шевалье повиновался. Женщин я не так опасался, так как я уводил с собою драгоценный залог и так как они не совсем разделяли чувства последнего, поэтому я удовольствовался тем, что запер их, уходя; пробираясь по самым пустынным улицам Парижа, мы дошли до Елисейских полей. Было около четырех часов утра, мы не встретили ни души, Я взялся нести серебро, отнюдь не желая поручать его своему товарищу; мне необходимо было уйти от него без ущерба для себя, в случае, если он заартачится или окажется непокорным. К счастью, он повиновался мне во всем; впрочем, со мной был ужасный нож, и Шевалье был убежден, что при малейшем его движении я не поколеблюсь вонзить ему в сердце страшное орудие. Эта боязнь, которую он ощущал тем более, что сознавал за собой грешок, была полезна для меня, и я был вполне уверен в нем.
Мы долго прогуливались по окрестностям Шальо; Шевалье, который не мог подозревать, чем все это кончится, машинально следовал за мной; он был уничтожен и как бы поражен идиотизмом. Часов в восемь я заставил его сесть в наемную карету и довез его до Булонского леса, где он от своего имени, в моем присутствии, заложил принесенное мной серебро; за него ему дали сто франков. Я взял эту сумму, довольный тем, что снова вернул гуртом то, что он вытянул от меня по мелочам. Я вместе с ним снова сел в фиакр и велел остановиться на площади Конкорд. Там я вышел из экипажа, сообщив ему следующую инструкцию: «Помни, что тебе следует быть более скрытным и осторожным, нежели когда-либо; если меня заарестуют, по чьей бы то ни было вине, то ты у меня берегись». Кучеру я приказал везти его во всю прыть в улицу Echiquier, № 23; чтобы быть уверенным, что он не поедет в другое место, я внимательно наблюдал за ним некоторое время, после этого я в кабриолете отправился к тряпичнику; тот дал мне полный костюм рабочего взамен моего платья. В этой новой одежде я направился в Инвалидный дом, с намерением осведомиться, есть ли возможность приобрести там инвалидный мундир.
Какой-то старец на костыле, к которому я обратился с расспросами, указал мне на торговца платьем в улице Сен-Доминик; у него я нашел что желал. Купец был, как я заметил, страшный болтун от природы.
— Я не любопытен, — поспешил он заявить (обычное предисловие для всех нескромных вопросов), — но, мне кажется, у вас, слава Богу, все члены целы; полагаю, что мундир не для вас.
— Извините, — ответил я, — для меня.
И когда мой купец пришел в удивление, я объяснил ему, что буду участвовать в спектакле.
— В какой пьесе, позвольте спросить?
— В «Сыновней любви».
Окончив торг, я тотчас же отправился в Басси и у одного знакомого, в преданности которого я был уверен, поспешил привести в исполнение свой план. В пять минут я превратился в самого искалеченного инвалида; одна рука, притянутая к груди и прикрепленная к торсу ремнем и поясом от панталон, совершенно исчезла, так что и признаков ее не было. Несколько тряпок, всунутых в верхнюю часть рукава оконечность которого прикреплялась к передней части мундира, как нельзя вернее изображали собою обрубок руки и довершали иллюзию. Черная помада, которой я окрасил свои волосы и бакенбарды, делала меня окончательно неузнаваемым. В этом костюме я был уверен, что мне не только удастся провести чутье наблюдательных аргусов из улицы Иерусалима, но что меня не узнает решительно никто, поэтому я нашел возможность в тот же вечер показаться в квартале Сен-Мартен. Я узнал, что полиция не только продолжала занимать мою квартиру, но и сделала перепись всех товаров и утвари. Снуя между агентами, ходившими взад и вперед, мне легко было убедиться, что поиски продолжались деятельнее прежнего, с усердием, необычайным в те времена, когда бдительная администрация не слишком-то усердствовала, если дело касалось не политических преступлений. Испуганный таким упорным преследованием, другой на моем месте счел бы благоразумным немедленно удалиться из Парижа, по крайней мере на время. Конечно, было бы весьма удобно переждать бурю где-нибудь в провинции; но я не мог решиться покинуть Аннетту среди треволнений, которым она подвергалась из любви ко мне. Ей много пришлось выстрадать из-за меня, она двадцать дней провела в заключении в префектуре, откуда ее наконец выпустили с угрозой посадить в Сен-Лазар, если она не согласится указать, где я скрываюсь. Аннетта ни за что не произнесла бы ни слова, даже если бы к ней пристали с ножом к горлу. Можете судить, что я чувствовал, сознавая ее в таком бедственном положении; я не мог освободить ее, и как только это от меня зависело, я поспешил ей на помощь. Кстати, один из моих друзей, который мне был должен несколько сот франков, отдал мне долг; я попросил его передать ей часть этой суммы, и в полной надежде, что ее заключение скоро окончится, так как вся вина ее состояла в том, что она жила с беглым каторжником, я приготовился выехать из Парижа, предполагая, на случай, если она не будет выпущена на волю до моего отъезда, позднее уведомить ее, куда я направился.