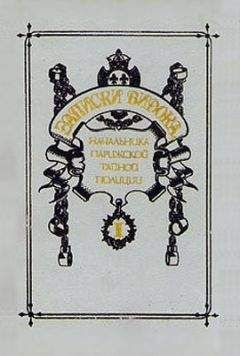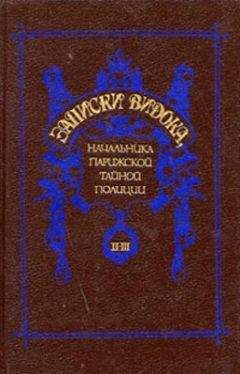В Бисетре у меня был просто придворный штат, как у какого-нибудь царька; вокруг моей особы толпились арестанты, слушали меня, как оракула, осыпали угождениями. Но теперь вся эта тюремная слава опостылела мне; чем более я приобретал способность читать в душе преступников, чем более они обнаруживались мне во всей наготе порока, тем более я жалел общество, в среде которого могло существовать такое низкое отребье. Я уже более не ощущал того чувства товарищества по несчастью, которое в былое время одушевляло меня; горький опыт — опыт, приобретенный целыми годами, — внушал мне потребность отделиться от этих разбойников, которых я презирал до глубины души. Решившись во что бы то ни стало вооружиться против них в интересах честных людей, я снова написал г-ну Анри, вторично предлагая ему свои услуги, без иного условия, кроме освобождения от каторги, обещая высидеть свой срок в какой бы то ни было тюрьме.
Из моего письма так ясно было видно, какого рода сведения я мог доставить, что г-н Анри был поражен им. Одно соображение останавливало его — это пример многих лиц, обвиняемых или осужденных, обязавшихся направить полицию куда следует, но доставивших весьма незначительные и маловажные сведения, или же настигнутых на месте преступления. На это веское возражение я привел причину моего обвинения[10], добросовестность моего поведения всякий раз, как я вырывался на свободу, настойчивость моих стараний зарабатывать честным путем насущный хлеб; наконец, я предъявил свою корреспонденцию, свои счетные книги, я призывал в свидетели всех людей, с которыми имел деловые сношения, и в особенности моих кредиторов, чувствовавших ко мне полное доверие.
Упомянутые мною обстоятельства сильно говорили в мою пользу; г-н Анри представил мою просьбу префекту полиции Пакье, который решил, что мое ходатайство будет принято. После двухмесячного пребывания в Бисетре я был переведен в Форс. Чтобы избавить меня от всяких подозрений, среди арестантов распространили нарочно слух, будто я замешан в весьма скверное дело и что немедленно приступят к следствию. Эта предосторожность, соединенная с моей репутацией, еще более увеличила мою популярность. Ни один заключенный не посмел сомневаться в том, что я действительно попался в скверном деле. Про меня шепотом говорили: «это эскарп» (убийца), а так как в том месте, где я находился, убийца обыкновенно внушает большое доверие, то я и не подумал опровергать это заблуждение, полезное для моих планов. Тогда я был далек от предположения, что обман, который я допускал добровольно, мог с течением времени перейти в уверенность, и теперь, когда я пишу свои записки, мне нелишне будет сказать, что я никогда не был виновен в убийстве. С тех пор, как обо мне стали говорить в публике, столько появлялось нелепых слухов и толков на мой счет! Каких только ни выдумывали ужасов люди, заинтересованные в том, чтобы прославить меня низким злодеем! То будто бы я был заклеймен и приговорен к каторжным работам пожизненно; то будто бы меня спасли от гильотины только под условием выдавать полиции известное число преступников в месяц, и если только недоставало одного, то сделка оказывалась недействительной, — поэтому-то, за неимением действительных виновных, я выдавал даже невинных, какие мне попадутся под руку. Дошли даже до того, что обвинили меня, будто я в одной кофейне сунул серебряный прибор в карман одного студента! Позднее я буду иметь случай возвращаться к этим клеветам, в некоторых главах я выясню средства, употребляемые полицией, ее действия, ее тайны, словом, все, что мне удалось узнать.
Принятое мною обязательство вовсе не было так легко выполнить, как, может быть, думают. В действительности я знал множество преступников, но изведенное всякого рода излишествами, ужасным тюремным режимом, нищетой — это гнусное поколение выродилось с замечательной быстротой; другое поколение было на сцене, и я не знал даже имени лиц, входивших в состав его. В то время множество воров эксплуатировали столицу, но мне невозможно было бы доставить хотя малейшее сведение о главных из них; только моя давнишняя репутация могла дать мне возможность получать сведения об этих бедуинах нашей современной цивилизации.
В Форс не являлось ни одного вора, который не поспешил бы добиваться моего знакомства; если бы даже он никогда не видел меня, то старался, из самолюбия и чтобы придать себе известный шик в глазах товарищей, показать вид, будто он был когда-то в хороших отношениях со мною. Я льстил этому странному самолюбию; этим путем я незаметно прокрался на почву открытий; сведения явились в изобилии, и я не встретил более никаких препятствий для выполнения своей задачи.
Чтобы дать понятие о влиянии, которым я пользовался на арестантов, мне достаточно будет сказать, что я по своей воле и усмотрению прививал к ним свои воззрения, свои привязанности, склонности, привычки — они думали моим умом, клялись моим именем: если им приходилось невзлюбить за что-нибудь одного из наших товарищей по заключению, потому, что они считали его за барана, мне стоило только замолвить за него слово — и, конечно, его репутация была восстановлена. Я в одно и то же время был могущественным покровителем и поручителем в искренности его, если она находилась под сомнением. Первый, на котором мне пришлось испытать свою силу, был один молодой человек, обвиняемый в том, что служил полиции в качестве агента. Утверждали, что он состоял на жалованьи у генерального инспектора Вейра, и прибавляли, что однажды, явившись с рапортом к своему начальству, он украл серебро из корзины. Обокрасть инспектора, это еще не беда, напротив того, — но отправиться с доносом!.. Таково было громадное преступление, в котором обвиняли Коко-Лакура, в настоящее время моего преемника. Выслушивая угрозы и ругань со всех сторон, притесняемый, гонимый всеми и каждым, не осмеливаясь и носа показать во двор, он, наверное, окончил бы скверно, если бы в этом печальном положении не прибегнул к моей помощи и покровительству. Чтобы расположить меня в свою пользу, он начал поверять мне различные тайны, из которых я сумел извлечь выгоду. Во-первых, я употребил все свое влияние, чтобы примирить его с товарищами и заставить их отказаться от планов мести, — сослужить ему большую службу было бы невозможно.
Отчасти из чувства благодарности, отчасти из желания высказаться, он более ничего не скрывал от меня. Однажды, вернувшись от судебного следователя, он сказал мне:
— Черт возьми, мне везет счастье; ни один из истцов не узнал меня; впрочем, я еще не считаю себя спасенным; есть на свете один дуралей-дворник, чтоб ему пусто было, у которого я стащил серебряные часы; я долго разговаривал с ним, и мои черты, верно, врезались в его памяти; если его вызовут, то мне несдобровать на очной ставке, — эти черти-дворники физиономисты.