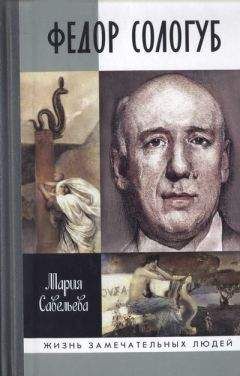Однако утвердившееся мнение все же оказалось долговечным. В некрологе Ю. Айхенвальд отмечал: «…зеркалом самого Сологуба, а не русской общественности был этот нашумевший роман. Правда, к нему отнеслись так гостеприимно именно потому, что хотели видеть в нем сатиру, какое-то продолжение „Человека в футляре“, насмешку над строем русской жизни — особенно школы. Но душевнобольной Передонов с его „недотыкомками“ во всяком случае не мог быть принят за тип, как не типична, а индивидуальна всякая болезнь вообще. Вот индивидуальность свою и показывал Федор Сологуб в своих произведениях — показывал искренно, полно, интимно. Он не каялся, но исповедовался»[889].
«Прочтите „Мелкого беса“ — это Сологуб, — писала Е. Данько, — прочтите стихи об Алетее — это тоже Сологуб. Будущий исследователь творчества Сологуба остановится в недоумении, затаив дыхание перед многообразием его творческого образа, перед колоссальной силой художника и перед непримиримыми противоречиями, — и он найдет примиряющее все звено. А мы перед человеком Сологубом стояли в таком же недоумении, — и то, что я смогла найти, — это „человек большого страдания“»[890].
И, как уже самоочевидную истину, спустя многие десятилетия сходные суждения повторял Глеб Горбовский: «Давно хочу объяснить себе Сологуба: чем привлекает, притягивает к себе образ этого некрасивого, покрытого бородавками человека? И вдруг догадываюсь: уродством духа. Уродство, заполученное в общении с людьми еще на первой стадии жизни — детстве-отрочестве и далее — в провинциальном учительстве, Передонова Сологуб, в общем-то, с себя рисовал. Потому и убедительно, и пронзительно, и неповторимо. Хлебнувший в молодости уродства несет на себе отпечаток дьявольского копыта»[891].
Образ Передонова в определенном смысле повлиял на человеческую и литературную репутацию его создателя (в этом творении критики и современники безошибочно распознали акт авторской сублимации).
«Предубеждение к его личности у меня было сильное, — вспоминал В. В. Вересаев. — Все, что приходилось о нем слышать, говорило, что это человек мрачный и злой, жестокий сладострастник с наклонностью к извращениям, — и все это не только в стихах. Ив. А. Бунин рассказывал мне, что в конце девяностых годов он где-то познакомился с Сологубом. Сологуб в разговоре спросил его: — Вы кого предпочитаете, мальчиков или девочек? А Вячеслав Иванов, когда узнал, что Анастасия Николаевна Чеботаревская выходит замуж за Сологуба, сказал ее сестре Александре Николаевне: — Не могу поздравить ее с таким браком»[892].
«Его не любили, — вспоминал П. Рысс, — считали злым, его боялись, что еще хуже — чурались. <…> С виду холодный, сдержанный, чрезмерно язвительный, с застывшими глазами, как бы презрительно полузакрытыми, — Ф. К. зачастую внушал к себе неприязнь»[893]; ему вторил Л. Клейнборт: «он сочетал в такой степени свое паучье с человечьим, своего мелкого беса с большим духом…»[894].
В мемуарах участников литературной жизни конца XIX — начала XX века облик Сологуба нередко «подсвечивается» передоновским. «Сколько раз, — признавалась Е. Данько, — мне хотелось раздавить эту гадину, в порыве отвращения и инстинкта самосохранения, который отталкивает нас от всего уродливого, болезненного и гнилого, заставляет зажимать нос, когда слышишь вонь. <…> Уж очень чудовищным кажется Сологуб как явление»; «Мое отвращение к Сологубу было так велико, что, даже узнав о его смерти, — я не чувствовала оправдания. <…> встреча с ним — как ничто другое — показала мне всю гаденькую, грязную, низенькую человеческую природу»[895].
Даже в тех случаях, когда, бесспорно признавая выдающиеся литературные заслуги Сологуба, мемуаристы и бывшие соратники по перу дружески старались подчеркнуть в его внешности или поведении что-либо привлекательное, неизменно возникал (бессознательно?) негативный подтекст, изображение двоилось, будто бы за фигурой Сологуба неотвязно следовала его тень — учитель Передонов (или учитель-инспектор Ф. К. Тетерников?).
«Портрет Кустодиева очень удачен в отношении сходства, — вспоминал Г. Чулков. — Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определяется не десятилетиями, а, по крайней мере, тысячелетиями — такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах»[896].
Между тем портрет 44-летнего Сологуба, написанный Б. М. Кустодиевым в 1907 году, вызывает единственную ассоциацию — Передонов! Сидящий на казенном диване человек в черном костюме, брезгливо смотрящий на мир сквозь пенсне, невольно воскрешает в памяти меткие словечки современников: «кирпич в сюртуке» (В. Розанов) «сухой, „злой“ старичок, Федор Кузьмич Тетерников» (А. Белый)[897]; «старичок Тетерников» (М. Горький), или же подобные, не слишком отличающиеся по своей сути характеристики.
Тэффи: «Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда <…> он мне показался старым, даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое, всегда скучающее лицо. <…> Он никогда не смеялся»[898].
В. Ходасевич: «Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, — большая белая бородавка»[899].
Г. Иванов: «Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой „холодок“ от него распространился»[900].
«Когда К. С. Петров-Водкин написал не очень похожий, но очень символический „фресковый“ портрет Сологуба, — вспоминал Э. Голлербах, — Ф. К. усмотрел в этом образе черты Передонова и возмутился до глубины души. Отзывы его об этом портрете были резки и не поддавались парированию. Сколько я ни пытался убедить Ф. К. в живописной ценности этого портрета, он отмалчивался от него решительно и ожесточенно. Это была одна из „личин“, обличенная художником, и оттого портрет был невыносим Сологубу, любившему литературный маскарад, но не терпевшему „разоблачений“»[901].