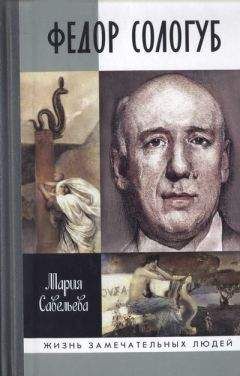В pendant внешнему облику Сологуба мемуаристы описывали его инспекторский обиход. М. Добужинский, столь удачно изобразивший Недотыкомку, украсившую обложку первого издания «Мелкого беса», вспоминал: «…было странно видеть, что Сологуб жил в такой мещанской и банальной обстановке, достойной быть интерьером самого героя „Мелкого беса“ Передонова, с обоями в цветочек, с фикусами в углах гостиной и с чинно расставленной мебелью в чехлах. Циник Нувель, который тоже часто у него бывал, уверял, что Сологуб и есть сам Передонов и потому купается в пошлости! <…> Федор Кузьмич в то время имел весьма патриархальный вид лысого деда с седой бородой, что как раз не вязалось с изысканностью и греховностью его стихов и было, в сущности, его загадочной маской»[902].
Стремление Сологуба быть неуязвимым для общественного дозора, страх перед возможным посягательством на его внутренний мир и тайну личной жизни, принципиальная «закрытость» от окружающих порождали вокруг его имени поистине зловещие слухи и небылицы, которые также подогревались сопровождавшей его тенью Передонова.
Сплетни и пересуды сопутствовали писателю и после смерти. 22 апреля 1941 года Иванов-Разумник, например, писал Е. П. Иванову: «Давным-давно знаю эту сплетню, относился к ней равнодушно (мне какое дело?), пусть даже и правда; но лишь в этом году, прочитав обширный дневник Ф<едора> К<узьмича> эпохи 1877–1898 гг., убедился в полной вздорности этой сплетни про Ольгу (а не Елизавету) Кузьминичну и ее брата»[903].
В мемуарном очерке о Сологубе, создававшемся в 1930-е годы, Л. М. Клейнборт рассказывал:
Литераторы, художники, артисты вообще питают склонность к злословию, к сплетне. Чего не рассказывалось про Мережковского, про З. Н. Гиппиус, про Кузмина, про Зиновьеву-Аннибал и т. д. Но никто в такой степени не угодил этому судачеству своей особой, как Федор Сологуб.
Говорили, что с ним рискованно встретиться где-нибудь в темном месте, когда кругом людей нет. Он, оказывается, может высунуть вам язык, когда вы менее всего ожидаете этого. А то, с искривленным ртом, поднесет вам: «Давно я не ел человеческого мяса». Он «психопат», «садист», оказывается, не только как поэт. Из своего училища Сологуб ушел по выслуге 25-летней пенсии. При его положении в литературном мире ему уже не для чего было быть инспектором Андреевского городского училища. А может быть, и наоборот, близость к литературе и литературному миру бросила на него тень в глазах начальства. Слухи же объясняли его уход со службы тем, что он превратил учеников в «тихих мальчиков», изображенных в «Навьих чарах», окунул их в тайны «мудрого садизма»[904]. <…> Особняком стояла сама Чеботаревская, которая не то сама секла своего супруга, не то он — ее, после чего они предавались половому безумству[905].
Сологуб как будто бы и не сопротивлялся фантастическим измышлениям, напротив, создается впечатление, что он их всячески поощрял, как своим поведением, так и всем своим творчеством. «Чем бы и как бы меня ни унизили, / Что мне людские покоры и смех. / К страшным и тайным утехам приблизили / Сердце мое наслажденье и грех»[906], — подобные весьма многочисленные лирические излияния провоцировали читателей и критиков на самые мрачные догадки. «Джек-потрошитель современной литературы» — так назвал его газетный обозреватель[907]в связи с публикацией в «Золотом руне» цикла садистских стихотворений «Багряный пир зари»[908].
В чем только его не подозревали, за что только его не осуждали: «Сатириазис, фетишизм, садизм, уранизм, кровосмесительство, некрофилия — ничто не забыто Сологубом»[909]; «сладострастное копание в извращенностях полового безумства даровитый писатель превратил в последние годы в свою специальность»[910]; «в произведениях Сологуба мучительство, побои, доносы тесно связаны с болезненной эротоманией, с половыми извращениями на почве садизма. <…> При виде розог или хотя бы при рассказах о побоях герои Сологуба захлебываются от садического восторга»[911]; творчество Сологуба «настоящее откровение, вводящее в психику переживаний, говорящее о тайном очаровании ужаса, крови, убийства, о пробуждении телесных инстинктов кровавого сладострастия. <…> Сологубу, по близости „я“ к изображаемому, по искренности, ближе всех де Сад»[912].
Помимо всего, в начале 1910-х годов «певцу смерти» вменяли в вину ответственность за эпидемию самоубийств. Не так уж мало для одного человека и «великого писателя».
Кстати, на вопросы анкеты газеты «Биржевые ведомости», обращенной к выдающимся современникам с целью предотвращения роста самоубийств, он ответил провокационно, но «стильно»:
Природа ненавидит слабости и естественным подбором стремится создать жизнеспособный и стойкий организм. Поэтому нам нечего бояться самоубийств, — они являются клапаном, дающим выход слабости. Самоубийцы отнюдь не выше окружающей среды: не сильная воля, не высшие запросы заставляют их бежать из жизни, а только их неумение приспособиться и создать что-либо самостоятельное[913].
Д. В. Философов предполагал: «Ведь это стиль писателя, который он в себе выработал. Много позже, в 1914 г. на даче в Эстонии у Игоря Северянина, Сологуб шутя говорил: „вот пойду я завтра туда“ (т. е. на кладбище) сам, отыщу покойника посвежее, да и высосу его, как полагается мне, Сологубу»[914]. Эта же задорная провокационная нота звучит в беглой заметке: «Маленькое воспоминание: на вечере у Случевского (пятница) я читал при Васе, уже 2-й или 3-й раз, стихи о спасшем меня дьяволе. Молодые поэты смеялись. — Д<митрий> С<ергеевич> стал хвалить. Они смутились. Д<митрий> С<ергеевич> сказал: это — смешно, но… Они обрадовались позволению и захохотали, как по команде. Мне было очень весело»[915].
Зачем поэту, пользовавшемуся признанием в ближайшем литературном кругу и относительной известностью у публики, понадобился такой сомнительный пиар, в котором он к тому же столь преуспел? Поклонницы жестокого таланта Сологуба забрасывали его экстатическими призывами: «Полюби. Полюби. Я отдам тебе мою душу, мое тело, мою правду, ненужную молодость. Так свято, радостно отдаться тебе. <…> С тобой нет греха, нет стыда, нет раскаянья», — взывала некая Ниара[916]; ей вторила Наталия 3.: «Мне
20 лет, моя плоть еще не знала радостей. Вы первый мне сказали про них, дав порыв к боли-экстазу. Невыносимо без нее жить. Под Вашею фатою фантазии, в томлении о вопле истязанья, волнуюсь, отдаюсь его чаяньям, говорю с Вами, слушаю молящие слова мои — позовите меня Вы, Федор Сологуб, дайте мучительное счастье»[917] и др.