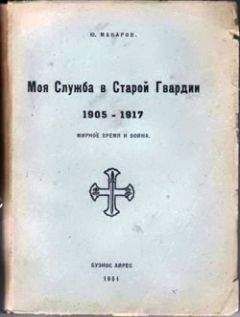Первый переход был очень тяжелый. Роты шли пешком, по глубокому снегу. Кругом завывала пурга, смерчами крутя снежные иглы. Мороз был градусов на двадцать пять. Спасали папахи и полушубки, в которые нас одели перед Каргаллой в казармах запасного полка. Отстающих подбирал санный обоз. Отстать означало верную смерть. Не говоря о пурге и морозе, кругом бродили волчьи стаи, и время от времени обозники постреливали в мутную темноту. Зато в такую ночь ни о каком преследовании не могло быть и речи. Двигались медленно, почти ощупью, всю бесконечную январскую ночь. Утром большая, еще оренбургская станица. У нас, кадет, денег нет, конечно, никаких: ни царских, ни «керенок», ни новых, выпущенных Дутовым за время блокады, — «оренбургских». Вот она, встреча с реальной жизнью… Не дымится на длинных столах чай в белых кружках и не лежит рядом с кружкой пол французской булки. В «той» жизни все это стояло и дымилось в ожидании команды «сесть»… В этой же, «настоящей», нужно было заказать и заплатить. В избы принимают в этих суровых краях, в тепле не отказывают ни собаке, ни даже киргизу. Для уральца и, может быть, в чуть меньшей степени, соседа его оренбуржца киргиз — хуже собаки. К нам относятся с недружелюбным подозрением. Если бы еще с нами был атаман… А то одни «иногородние». Еще, чего доброго, большевики идут следом. Теперь нам понятно, почему пал Оренбург и почему у Дутова, кроме юнкеров и сотни–другой «Стариков», не нашлось защитников.
К счастью, Хрусталев уже знает жизнь «настоящую». Недаром он уже пять месяцев — прапорщик, а перед тем был юнкером. Он долго торгуется с казаками за наш чай и завтрак. Бегает по избам — мы расположились человек по восьми — десяти, и довольно разбросанно, — устанавливает связь; долго здесь не останемся из‑за близости Оренбурга. Завтрак зато на славу. Спим на сене, часа три. Когда выходим после полудня, сдова начинается метель. На этот раз начальство не решается рисковать: до ближайшей, уже уральской станицы около тридцати верст, что в метель, грозящую перейти в настоящую пургу, — за вихрями снега не видно первых рядов взвода, — представляет по крайней мере пятнадцать часов утомительного марша — значит, придем в станицу глухой ночью. Колонну поворачивают через полчаса обратно. Слава Богу! Пожалуй, на этрт раз, даже при наличии нашего патронного обоза, мы не всех досчитались бы на следующее утро.
В своем начале гражданская война еще сохраняет кое–какой комфорт. Мы все тепло и однообразно одеты в полушубки, ватные штаны и валенки. На голове папаха с наушниками, на руках пехотные суконные рукавицы с одним пальцем. В теплушках под Каргаллой жарко топились печи, и даже снежные окопы, в которых мы провели день 16 января, кто‑то нам заранее приготовил. Так и теперь. Хотя маловероятно, что бузулукские красногвардейцы и матросы бросятся за нами вдогонку в такую метель, все же штаб решает выступать. Для всего отряда нанимаются сани–розвальни. Не прошло и двух часов, как выступаем снова, утопая в сене. Удобно, но зато скоро делается холодно, несмотря на валенки и рукавицы. В одних санях со мной молодой кавалерийский поручик из офицерского отряда и один из нашедших у нас временный приют, кадет 2–го кадетского корпуса Лихошерстов — сутуловатый, большерукий и большеногий, как породистый щенок. Попал он в мое отделение «классного надзирателя» Григория Семеновича Хрусталева, нашего «историка» и отца нашего восемнадцатилетнего командира Мы очень с ним подружились еще в Оренбурге и стараемся быть везде вместе. Вот и едем в одних и тех же розвальнях, хотя он первого, а я третьего взвода. Он все время шушукается с кавалерийским поручиком, и я чувствую себя обиженным. Наконец он спрашивает поручика, кивая головой в мою сторону, — а ему можно сказать? Поручик мерит меня критическим взглядом, который, как мне кажется, говорит — куда ему? это еще ребенок, — но все же снисходительно произносит:
— Ну что же, говорите.
— Мы собираемся спасать Государя, — шепотом объясняет мне мой столичный приятель. От ошеломившей новости захватывает дух. — Да, да! Из Уральска мы едем в Сибирь, организуем там отряд и освободим Государя и всю Семью. Только сейчас молчи! А ну, перекрестись, что никому не скажешь!
Я снимаю папаху и рукавицу и крещусь на тридцатиградусном морозе, под завывание уральской пурги.
Потом мечтаю, как все это произойдет. Подробности уж слишком сложны. Сначала я пытаюсь их себе представить, но уж очень все это трудно, и я от них отмахиваюсь. Начинаю с момента, когда я, именно я и совершенно один, останусь с Ним с глазу на глаз и скажу по–французски, чтобы никто нас не слышал: «Sire, nous sorames venus pour vous liberer!»
Государь улыбнется своими серыми глазами (это только для того, чтобы улыбкой не выдать нашего диалога) и скажет: «Как хорошо вы говорите по–французски, молодой человек. Вы, наверное, паж?» — «Нет, ваше величество. Я всего лишь кадет пятого класса Оренбургского Неплюевского корпуса, но мое отделение в первой роте». Тогда Государь пожалует Неплюевскому корпусу свое шефство, и мы будем носить накладной вензель. Меня же он возведет в графское достоинство. А потом я буду запросто приглашаться в Царскую Семью, подружусь с Наследником, который только на один год меня моложе, и стану когда‑то, очень и очень не скоро, первым лицом в царствование Императора Алексея Второго.
Под эти мечты и под завывание метели я засыпаю. В полной темноте въезжаем в первую уральскую станицу. Название ее мне знакомо по «Истории Пугачевского бунта». Отсюда вышел Пугачев для нападения на Белозерную, которая в «Капитанской дочке» называется «Белогорской», и здесь, совсем недалеко, погиб отряд генерала фон Карра. Может быть, в какой‑нибудь из этих изб пьянствовал со своим каторжным штабом безграмотный хорунжий Войска Донского, потрясший трон Екатерины?
— Не курите в избе, — предостерегает Хрусталев. — Уральцы в большинстве староверы. Нас они называют «единоверцами». Единоверцев принимают в «чистую» избу, куда не вхожи татары, киргизы и вообще мусульмане. Но все же для единоверцев существует особая посуда, которой никогда не пользуются наши суровые хозяева.
На мою беду, я брюнет, что вызывает подозрительность старика казака, нашего хозяина.
— Ты не киргиз?
— Нет.
— Не татарин?
— Нет.
— Покажи крест!
О ужас!.. Я все последнее время носил золотой крестильный крест. Совсем недавно он поломался, и я оставил его в парте среди своих вещей. Ведь через две недели нас вызовут обратно телеграммами, так как Корнилов их разгонит. Объясняю, путаясь, историю моего креста.
— А ну, прочти «Отче Наш»!
Читаю, сбиваясь от волнения, и от волнения же начинаю креститься, но старик резко меня останавливает: