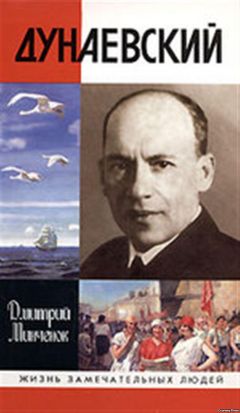Это была большая игра. Смирнову изнурял роман с литературными играми. Ей приходилось лезть в энциклопедии, чтобы написать ответ своему возлюбленному. Разве это может длиться долго? Только до тех пор, пока у Смирновой не появился мужчина, который не требовал от неё писем. Однажды в Москве, когда Смирнова пришла к нему в номер, Дунаевский сказал ей: "Будьте моей женой". Исаак Осипович, наверное, думал, что всё будет, как в киносказке. Она ответила: "Нет". Дунаевский молча проглотил обиду. Хотя можно представить, что творилось в его душе. Финал их романа красноречиво описывает Смирнова. Она прибежала к нему, вошла в номер, а он влепил фразу: "Я вас больше не люблю. Уходите".
Так может говорить не очень влюблённый человек. Так может говорить тот, кто не любит, но хочет играть в любовь. Смирнова плакала, а потом украдкой посматривала на себя в зеркало, красиво ли она плачет. Ей всё стало понятно. Она была "при деле и при таланте", и ей совсем незачем было менять своё устойчивое положение молодой "звёзды" на неустойчивое положение ещё одной возлюбленной композитора. У Дунаевского сломалась игрушка, их игра закончилась. И в ней не было победителя.
Они встретились ещё раз. Каждого обманывают не больше трёх раз в жизни. По-крупному, так сказано в каббале. Дунаевский переоформлял музыку к фильму "Актриса", сценарий к которому написал Эрдман. Дел было много. В Алма-Ате он встретил свою бывшую любовь. Лидия Смирнова только что переболела тифом и, естественно, выглядела не лучшим образом. Она знала, что он приедет. Ещё из поезда он послал ей письмо: "… такая человечина не может умереть". Она ждала чего-то необычного. А он увидел её и сказал: "Фу, какая вы некрасивая". Вот такой он был ценитель женщин. Мог простить женщине всё, кроме потери её красоты. Человек, для которого женская красота — самое главное на свете, не может простить женщине потерю этой красоты.
Они расстались. К тому же у Исаака Осиповича намечался новый роман, о чём он сам не вполне догадывался. Всё это время ему продолжала названивать Наталья Николаевна Гаярина, несчастная в своей любви женщина, а в письмах он давно целовал Прекрасную незнакомку. В общем, соблазнов было так много…
29 мая 1941 года Дунаевский уехал из Ленинграда с Ансамблем песни и пляски железнодорожников на гастроли по Закавказью и Северному Кавказу. Это событие много раз откомментировали в письмах и сам Дунаевский, и его сын, и друзья Дунаевского. Каждый придавал этому разное значение.
То, что мне рассказал Евгений Исаакович, было совсем неожиданным и начиналось издалека — с первого класса Генички Дунаевского, для которого 25 мая на Невском проспекте прозвенел последний звонок. Сын Дунаевского закончил первый класс. Оставаться в Ленинграде было неразумно. Подозрения на туберкулёз у мальчика плюс естественная человеческая потребность сменить летом обстановку заставили родителей определиться с местом отдыха. Долго думать насчёт жены и ребёнка не приходилось — под Москвой ждал огромный недостроенный "домик".
А вот у самого Исаака Осиповича планы были совсем другие. Он тогда возглавлял Краснознамённый флотский ансамбль в Ленинграде и Ансамбль песни и пляски железнодорожников в Москве. Лечил чужой пессимизм на море и на железных дорогах. Он был полон сил и энергии. Мир ещё не перевернулся. Исаак Осипович чертовски устал от бесконечных партитур. Хотелось сменить шум басовых шумом моря. В итоге Геничку отправили на дачу во Внуково вместе с мамой. А отец с железнодорожным коллективом отправился на долгие летние гастроли.
Должность Дунаевского приравнивалась к генеральским погонам — руководитель ансамбля. Сам Каганович звонит, хоть и изредка, и заказывает песни: "Железнодорожный марш", "Романс железнодорожников". Великие мира сего почти рядом. Каждый год в красном кремлёвском кабинете, где шторы были пропитаны зловонием лозунгов, собирались "надзиратели за культурой" и коллегиально решали, куда направить тот или иной коллектив летом. Времена, описанные Ильфом и Петровым в "Двенадцати стульях", когда работники "очагов культуры" выбирали свою дорогу на юг исходя из соображений "личного счастья и выгоды", безвозвратно канули в прошлое. В цековских кабинетах за них думали долго и обстоятельно, будто в самом деле могли помочь увеличить трудно добытое счастье и обречь на него миллионы неохваченных трудящихся, разбросанных по окраинам невиданной империи. Мучились серьёзно и оттого гротескно. Ильф и Петров подметили одну особенность: "красные" коллективы летом всегда отправляли в южные места поднатужиться и ещё больше покраснеть, а "беловатые" коллективы — на север, чтобы подправить пролетарское чутьё.
О блеск мысли людей с начищенными наганами! Строгое распределение счастья по всей огромной территории Союза, как масла, тонким слоем размазанного по хлебному куску. Музыка Дунаевского стала бесплотным эквивалентом счастья. Её раскладывали по тарелкам радиопередатчиков по каждой области — и так по всей огромной территории счастья. Миллионы людей тянули свои руки, чтобы принять драгоценный дар. О, как сладка, как сказочна была жизнь!
Отгремели старые песни, жена с сыном Геничкой остались где-то позади на даче во Внукове. Островерхие крыши дачных домов скрылись в туманной дымке. Впереди маячили новые горизонты. Чем ближе к ним приближался поезд, тем дальше они становились. Вот она, формула счастья! Оно где-то рядом, и, кажется, услышав его гармонию, протяни руку, возьми скрипку и сыграй мелодию — и всё сразу становится простым. Нужна бумага, чтобы записать мелодию. Где те слушатели, что оценят, поймут эту гармонию? Мелодию исполнят и забудут, женщину полюбишь и остынешь… Весь мир из одних взлётов и падений. Счастье — только иллюзия. Где его добыть Стаханову сердечных побед?
Состав едет, издали слышимый не громыханием колёс, а пиликаньем скрипок и какофонией звуков. На каждой станции сбегаются мальчишки — слушают, что за чудные дяденьки едут. Все в пиджаках, с галстуками. Чёрно-белое кино. Никогда местные жители не видели столько интеллигентных людей вместе. Примета эпохи. Человек в шляпе — почти жираф. А тут ещё и с инструментами. Такая редкость в средней полосе России. В вагонах танцоров и музыкантов — хохот. А Дунаевский про это время напишет своему педагогу — директору гимназии, в которой он учился при царе: "Все эти годы такие тяжёлые, как я их мог перенести?"
Поезд громыхал: чух, чух — точка. В голове эхом отзывалось: ля-ля-ля. Чух, чух, чух — ля-ля-ля — неплохая секвенция для марша. Тук-тук-перетук — токовали колёса, как глухари во время тока.