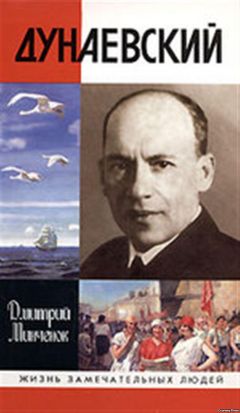13 июля 1940 года в особый сектор ЦК ВКП (б) на имя Сталина поступило письмо от группы кинематографистов — режиссёров и сценаристов. Его подписали добрый друг Дунаевского Григорий Александров, хороший знакомый Леонид Трауберг, любимчик Сталина Михаил Ромм, один из "братьев", создателей "Чапаева", Сергей Васильев, режиссёр Фридрих Эрмлер, сценарист фильма "Ленин в Октябре" Алексей Каплер.
Первым письмо режиссёров прочитал помощник Сталина Поскрёбышев. Вывода было два: либо они сошли с ума и написали Хозяину донос на самих себя (что было уже довольно распространено), либо договорились с кем-то из ЦК, чтобы их поддержали. Письмо представляло собой форменную "телегу" на нового начальника Управления по делам кинематографии Большакова, сменившего на этом посту Семёна Дукельского. Поскрёбышев подчеркнул красным карандашом места, которые были интересны Сталину. Верный слуга знал вкусы Хозяина.
То, что в самом начале письма режиссёры испуганно клялись, что они ни в коей мере никакая не группировка, Поскрёбышев выделять не стал. Это была уже тавтология. Тогда каждое второе сообщение в газетах о разоблачении врагов народа начиналось с фразы "группировка". А подчеркнул он вот что: "моральное состояние творческих работников очень тяжёлое". Это надо было знать, чтобы не пропустить бунт. "Мы знаем, как Вы безмерно заняты. И всё-таки мы обязаны просить Вас прочесть это письмо". Сразу видно: трудились профессионалы. Если убрать два слова "просить Вас", а букву "м" в слове "мы" заменить на "В" — получится: "И всё-таки Вы обязаны прочесть это письмо". Сталин этого не заметить не мог. И последнее: "Мы считаем себя не вправе молчать. Каждый из нас, так же как и вся масса творческих работников кино, готов отдать все свои силы, чтобы оправдать доверие народа".
Поскрёбышев подчеркнул все то, что показывало степень истерики. Суть дела была неинтересна. Хозяина могла заинтересовать степень недовольства, истерики, отчаяния тех, кто ему служил. Степень отчаяния Поскрёбышев тоже подчеркнул. И ещё подчеркнул (чтобы Сталин запомнил) подписи тех, кто скулил. По сравнению с Дунаевским, обращающимся к чиновнику среднего звена, даже не к министру, а всего лишь к одному из его замов, Григорий Александров и его друзья находились в более униженном положении. Что неудивительно — писали-το Хозяину! Чувства собственного достоинства почти не ощущается. А у Дунаевского ощущается. И дело тут не в уровне обращения. У Исаака Осиповича через всю жизнь навязчиво выявляется гипертрофированное ощущение чувства собственного достоинства, творческого достоинства — до побеления губ, до трясения подбородка.
В то время "играли" все, и он тоже. "Игр" было очень много. В 1940 году Дунаевский мог позволить себе отправить это письмо ещё и потому, что был депутатом Верховного Совета. Каждая социальная ступенька красной империи допускала определённую долю фрондёрства. И кажется, в этой "игре" конца тридцатых годов за своё финансовое благополучие он победил. Сталин отменил свой приказ о гонорарах. Исаак Осипович снова стал получать авторские за каждую песню, вылетавшую из радио. "То положение, которое мы имеем на сегодняшний день в вопросах оплаты труда композиторов, исключает возможность привлечения квалифицированных композиторских сил". Из этого письма видно, что Дунаевский считал себя единственным настоящим композитором для кино, который работает только на энтузиазме. Такие мелочи, как правило, всегда оставались за бортом правды о его жизни.
… Вся первая половина 1940 года прошла под знаком любви. Дунаевский опять стал жертвой страсти, той самой, от которой, как он писал, у мужчины нет спасения. Он, конечно, выторговал у Зинаиды Сергеевны своё право на влюбчивость. Он, конечно, нуждался в увлечении. Но всё было, скорее, мимолётным капризом.
Сколько мужчин — столько историй любви. Исаак Осипович всегда любил непохоже. Дунаевский был из той породы мужчин, которые за красоту прощают всё. Только праматерь всех женщин Лилит никогда не обманешь. Она часто строила Исааку козни. И главное, не подкопаешься, даже если ты окончил иешиву. Всё так, как будто перед тобой обычная земная женщина, и только опытный взгляд тёртого ребе способен определить, когда в дело вмешивается праматерь Лилит. У Исаака Дунаевского один из романов был именно таким.
На излёте тридцатых годов его популярность была абсолютной. Он знал, что такое дорогие рестораны, что такое письма мешками. И уже знал, что такое жить с одной женщиной, признаваться в любви другой, встречаться с третьей и обращать внимание на хорошеньких четвёртых, Всё как в музыке. Левая и правая руки играют разные партии. Дунаевский так же и любил. Одних женщин у него любило правое полушарие, других — левое. Но эта история не про нервные рефлексы, а про парадоксы жизни и женскую самостоятельность. В 1938 году ленинградский режиссёр Корш-Саблин, с которым Дунаевский уже успел много и плодотворно поработать, пригласил его писать музыку к новому фильму "Моя любовь". Это была картина о честной комсомольской девушке. Главную роль исполняла Лидия Смирнова. Молодая старлетка, выученица Таирова, которая очень хотела походить на Милицу Корьюс, звезду экрана, чем-то приглянулась Коршу.
Если верить её мемуарам, — а не верить им причины нет, — она была сексуальна. Чтобы понравиться режиссёру, могла прямо на голое тело надеть платье и, понадеявшись на мужскую реакцию, прийти на кинопробы. Да ещё сделать невинный взгляд. Короче, она была хороша безвозвратно, как может быть хороша только первая весна в жизни молодого человека. И глаз опытного мужчины мог это определить. Корш-Саблин утвердил актрису на главную роль. Композитор предпочитал сам работать с актёрами, певшими его песни, объяснять им малейшие нюансы. Именно благодаря этой скрупулёзности и состоялась та роковая встреча композитора и актрисы в трёхкомнатном номере гостиницы "Москва", о которой упоминает Лидия Смирнова. Этот номер и само жительство Исаака Осиповича в сталинских гостиницах представлялись в то время каким-то мистическим рецептом мужского успеха.
Дунаевский послал Смирновой записку, в которой просил её прийти к нему в тот самый номер с роялем и кожаной мебелью. Повод был самый серьёзный: работа над главной песней "Моя любовь". Молодая актриса явилась, робея. Она шла к главному композитору страны, кавалеру, орденоносцу, депутату, всеобщему любимцу. Она думала, что попала на олимп. Собственно, в этой гостиничной комнате, может, и находился филиал Парнаса. Она была наивной, а Дунаевский — умудрённым и подуставшим. Прекрасная Смирнова что-то напела или произнесла, а Дунаевский, будто Моцарт, моментально схватил её слова или мелодию, записал, напел. Потом подарил актрисе с трогательной надписью. Короче, их работа во всех смыслах была удачной. А потом им, естественно, приходилось расставаться, разъезжать каждому по своим работам и делам.