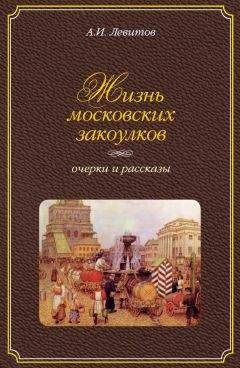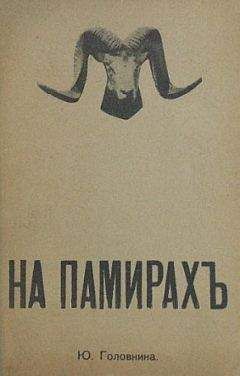Встал Кузьма Сладкий под обаянием сладкого сна и, встряхнувши длинными волосами, сказал втихомолку:
– В руку сон! Ишь как приятно привиделось насчет хозяйства! Пойду-ка я на радостях трахну. Потому недаром эти сны видятся: значит, скоро буду хозяином.
Площадь Хитрова рынка. Фотография начала XX в. Частная коллекция
В это-то время он первый и разогнал ночную тишину своим стуком в харчевенную дверь, а потом, когда улица сделалась совсем светлой, Кузьма сходил с грязного крыльца харчевни с медными деньгами в обоих кулаках и, отчаянно поматывая кудлатой головой, бурлил:
– Куда мне теперича, братцы мои? Что это я никак не при думаю? К хозяевам не пойду, – ну их к чертям! Говорят: поди, Иваныч, дров купи. А? Каково покажется?.. С-стой! Надумал, куда идти: схожу-ка я к Фоме в полпивную: Фома мне друг, Фома мне земляк, – а я к нему не схожу? С чикво так, пызвольте узнать?
Народ, валивший от ранних обеден, давал просторную дорогу Кузьме и говорил про себя:
– Вон оно! Кто празднику рад, тот до света пьян.
– Что, ребята, отошли обедни? – громогласно осведомлялся мастеровой у встречных.
– Отошли! – неохотно отвечали богомольцы.
– Н-ну, значит, с пр-р-раздником! – поздравляла всякого удалая голова, и затем она вытащила из-за пазухи старую, с облезлой позолотой гармонику и раскатила на всю улицу:
Р-р-ради гостя,
Рради дру-у-гга-а!
Охх!{284}
На одной из московских улиц, где каждую секунду в три путающиеся ряда валят обозы с хлебом, или скачут эти же самые обозы порожняком, пущенные на Божью власть красными, бородастыми лицами, орущими во все горло не песни, а так, черт знает что, – где на каждом шагу можно видеть лихачей-извозчиков, сцепившихся колесами, – где разбитые, окровавленные мордасы, в виде классических статуй, украшающих барские сады, торчат на каждой тротуарной тумбе, как нечто отдельно живущее от своих владельцев, – где, наконец, над всем этим буйно-пошлым гулом царит кулак будочника, приводящий все это, так сказать, к одинакому знаменателю, – так вот на такой-то улице, говорю, можно приметить угол, с которого сразу, в обрыв, начинается другая жизнь. Каменные палаты, с балконами, с мрачными подъездами, с важными швейцарами, по-хамски относящимися с этих подъездов к дневному течению, вдруг прекращались на этом углу, и вместо них выстраивалось кособокое царство домишек, принадлежавших, как говорили наворотные надписи, то надворной советнице Минодоре Певцовой, то купчихе второй гильдии г-же Лисафете Марковни Сычуговой, то цеховому Гавриле Разудалову.
Шли тут вывески, говорившие, что «хоша я и сапожный мастер Иван Забубённый, одначе ты мне задатку вперед не давай, – пропью; потому жизнь моя к дьяволу не годится». Грязь и ржавчина залезли на эту вывеску, разъели ее некогда белые буквы, заворотили уголки, прорвали середину и таким образом навсегда опакостили мастеровую репутацию Ивана Забубённого.
В окнах, примазанные разжеванным мякишем черного хлеба, пестрели ярлыки, говорившие:
«Сдеса-тко адаеца палугла».
«Чисавой мастир Петра Раскудряиф».
А вот и знакомая харчевня; она ухитрилась-таки со своих всегдашних гостей-лохмотников содрать себе денег на золотую вывеску. Бойко расписался на этой вывеске живущий напротив харчевни Иконописец Авдей Ликсандрыч гаспадин Ликсеиф художник из Питенбурха. Своей мастерской кистью Авдей Ликсандрыч раскатил на харчевенной вывеске: горат Растоф фхот взаведенья.
Катание на Масленице на Девичьем поле. Фотография начала XX в. Частный архив
Пиво азартно кипело в двух кружках; модный самовар, в виде помпейской вазы, щеголем подпер руки в боки; около него правильным полукругом стояли золотые чайные чашки; громадный графин толковал проходящим, что-де прочтите-ка, коли грамоте знаете, что на этой картине написано.
А послушные проходящие, изумляясь столичной росписи, читали по складам:
«Эдакой скус! Опробуйка, землячок!»
Так начиналась девственная улица, так она продолжалась, потом почти в самом конце, круто и криво обрушиваясь под гору, как бы топила в протекавшей здесь Москве-реке свою безвыходную нищету.
– Вот сейчас в быстру реку брошусь! – говорила она этим обрывом. – Ни дьявола своим мастерством в целый век не заработаешь, а только все винище одно жрешь и все это сказываешь себе: завтра, мол, беспременно отстану.
Работящая голь девственной улицы, в обыкновенные будничные дни угрюмая и до полного безмолвия смирная, теперь, праздничным слободным делом, вся высыпала на морозный день, и ржание этих парней в одних красных рубахах было столь вопиюще к небу об отмщении, что всякий больной человек ежели проходил тут, так непременно сердце его судорожно вздрагивало, и он вскрикивал:
– Горло, что ты ржешь? Когда же ты, человеческое горло, говорить станешь?
Барыня какая-то прошла, и порока-то в ней было только всего, что на голове ее, вместо шляпы огненного цвета, всегдашней на девственных улицах, – шляпы с такими же перьями, какие некогда развевались на Гекторовом шлеме, – была надета, как есть, братцы, как на мужике, шапка, опушенная серыми смушками. И шла эта барыня, никого не трогая, тихой, хорошей поступью; черные глаза ее пристально смотрели под ноги. Очевидно было, что она понимала, что ей не следует ломать своих маленьких ножек ради этой мостовой, вошедшей в притчу во языцех, – и вдруг:
– Ха, х-ха, х-ха-а!.. – громко раскатила улица по ее следам. Нельзя было не оглянуться на этот лешачиный хохот, и барыня оглянулась; а бойкая, с большими выпятившимися зубами, бабенка, манерно разглаживая свои напомаженные и выпущенные из-под платка височки, закричала ей:
– Что глядишь? Ай не знаешь?.. Вместе езживали…
Ай барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Чив-во тибе надомна?
Заорали на разные голоса молодцы, закривлялись при этом и заломались со свойственной мастеровой нацее грацией.
Ежели бы барыня в смушковой шапке вдруг в это время воротилась и, топнув ногой на хор, закричала бы: «Как вы смеете, расподлая эдакая мастеровщина, обращаться так с благородной женщиной», – то, я уверен, праздничная уличная картина непременно изменилась бы. Шустрая бабенка с висками с визгом убежала бы в ворота, а за ней дали бы стрекача и ее рыцари.
Но прошла мимо барыня в шапке, и чем дальше отходила она, тем более густые слова сыпались ей в уши.
Уличная картина, следовательно, ничуть не изменилась.
Идет офицер и видно, что не пехтура{285} какая-нибудь, потому что за ним парадно выступает тысячная пара, запряженная в широкие сани, а на тротуаре, в взмешенном бесчисленным множеством ног снегу, лежит мастеровой. Вонь и грязь около него.