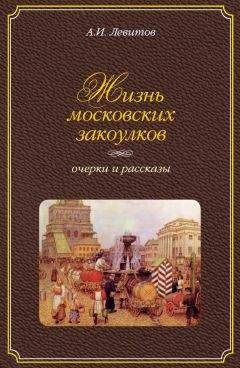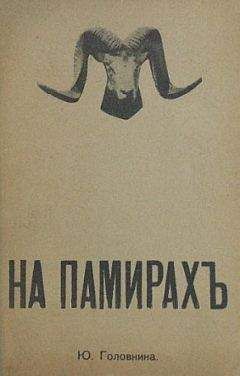Но прошла мимо барыня в шапке, и чем дальше отходила она, тем более густые слова сыпались ей в уши.
Уличная картина, следовательно, ничуть не изменилась.
Идет офицер и видно, что не пехтура{285} какая-нибудь, потому что за ним парадно выступает тысячная пара, запряженная в широкие сани, а на тротуаре, в взмешенном бесчисленным множеством ног снегу, лежит мастеровой. Вонь и грязь около него.
Офицеру скучно. Забрел он сюда бог знает зачем. В голове бродило что-то вроде смутной надежды встретить какую-нибудь эдакую… с глазками в виде крупных, зрелых вишен, маленькую эдакую, канальство, при взгляде на которую, черт возьми, сразу взмахнулись бы ввысь поднебесную ослабшие телеса.
«Ну, там платье, юбочек ей этих беленьких накупить, чтобы ножка была видна», – идет безмолвно офицерская дума, погромыхивая палашищем. «Посадить в сани, надвинуть на нее шапку-боярку и смотреть: необыкновенно в такие времена эти плебейки забываются. Сразу уже от коровника-то они в амбицию вламываются. Приятно в морозный день с таким раздуханчиком загородную прогулку учинить!..»
Тут вдруг офицер почему-то проникся гуманными идеями; стал он тогда мечтать о сближении сословий, и потому, увидя мастерового в снегу, он с ласковой улыбкой, имевшей ободрить погибающего брата, сказал: «Не сыро ли тебе здесь, любезный друг? Петр! покинь лошадей: пособи поднять человека!»
Петр, этот кучер, получающий тридцать целковых в месяц жалованья, в бьющей по глазам зеленоватой шубе, в белых замшевых рукавицах до локтей, с бородищей в три сажени, только мимоходом взглянул на барина и, не улыбнувшись даже, натянул зеленые возжи с серебряными наставками, отчего парадный шаг рысаков сделался еще параднее.
«Ишь, черт, с коих ранних пор коньяку этого своего ломанул!» – шевельнулось в кучерской душе на хозяйскую просьбу, а мастеровой, в свою очередь, не поднимая головы с холодного снега, забормотал:
– Не сс-сыр-ро! Не сыр-ро, раз-з…
– А, ты ругаться стал? – крикнул офицер. – Эй!
Сцена в ночлежном доме. Гравюра О. Мая по рисунку Г. Бролинга из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Необыкновенно скоро прибежал на этот зов пьяный, по случаю праздника, будочник и, сладко улыбаясь, спрашивал у офицера:
– Бить прикажете, ваше б – дие, али прямо в кутузку?
– Ваше в– дие! – Завопил, оглядываясь, мастеровой, – не погубите! Тридцать человек детей, семеро мастеровых содержу. Без меня все погибнуть должно.
– Х-ха-а, х-ха-а! – как за барыней в шапке, снова зазвенело ребячье грохотанье и над этим пассажем. – Что, небось узнал, какая она такая, Кузькина мать-то? – хохотали молодцы над проснувшимся, при виде густого офицерского султана, пьянюгой. – Вы бы его, ваше б – дие, в морду…
– А не будет ли от вашего б-дия на чаек чего-нибудь нашей артели? Потому, ей-богу, напрасно вы над ним смиловались: груб-с оченно!.. – докладывала барину некоторая удалая голова, отделившаяся от кружка.
– Ска-а-тина! – прошептал офицер, бросая, как кость собаке, рублевую ассигнацию удалой голове. – Поговори со мной…
Вслед затем он бросился в сани и сердито закричал своему великолепному Петру:
– Пшо-о-л, ска-а-а-тина!
Рысаки рванулись, и взвившаяся из-под их копыт снежная пыль помешала барину разглядеть и разузнать, как по улице и над его гневом, и над его милостью за один раз загромыхало новое, праздничное:
– Х-ха-а, х-хх-а! Побежим, ребята, теперича пиво жрать…
Кипит улица, гогочет, смеется и плачет. Вместе с ней гогочет, смеется и плачет и Кузьма Сладкий. Окончательно сшибенный с ног бесчисленным множеством шкаликов и косушек, он повалился теперь в уголок огородного забора и будки, задрал ноги кверху и орет без слов:
– Нну-у, н-ну! Хто смел, наизжай…
Будочники собрались около него и со смехом спрашивают:
– Што, Кузя, раздрешил?
– Раздрешил! – отвечает Кузя. – Бери в фартал! Ничего не боюсь.
– Да н-ну тебя к идолам и с фарталом-то! – досадуют будочники. – Хошь бы за полштофом послал: для ради праздника, а то – фартал!.. Не свои рази?..
– За полштофом? Нич-чего! Это м-можно!.. Сыми халат и валяй… Я тебя люблю, – ты мой фартальный…
А тут, по улице, совершалось как бы некое вавилонское пленение: шли гурьбами какие-то народы, в чуйках, со свирепыми, красными лицами, шли и кричали во все горло: ехали эти же самые лица на извозчиках по пятку в каждых санях, тихим, манерным шагом, и тоже кричали. Были в руках как у пешеходов, так и у ездоков бабы в красных сарафанах, пьяные и орущие, и гармонии в золотых бумажках, тоже пьяные и орущие…
– Фу, ты, Боже! – восклицал один будочник, потчуя стаканчиком лежащего Кузьму. – Откуда только такие силы берутся? Половодье словно… Кушай, Кузьма Иваныч!
Выкушивал Кузьма Иваныч, а девственная улица хмурилась все пуще и пуще, грознее и грознее развертывались ее праздничные картины.
Целое море голов бурлило около пойманного вора. Разное носильное отрепье висело у вора на левой руке, а правую, со сжатым кулаком, он держал выше своей седой, не покрытой головы, которая, в свою очередь, возвышалась над головами всей толпы.
Вор одет в старый, истерзанный и коротенький полушубок. Седые, кольцоватые усы грозно висели по челюстям; его смуглые, впалые щеки злобно вздрагивали по временам. Очевидно привыкшие к стрижке волосы встали дыбом, и таким образом этот человек весьма явственно изображал собой самого лютого бессрочного ундера.
– Бей, бей! – вопило сумасшедшим манером пятьсот голосов.
– Тр-ронь! – тихо, но мрачно отзывался вор, и при этих словах на лице его нельзя было увидеть ни малейшего движения. Он был лют и серьезен, как, может быть, он был лют и серьезен, когда пускал в славных битвах батальный огонь на угорелую вражью кавалерию…
– Да ведь ты же украл? – раздаются несметные голоса. – Ты же ведь у ей, у модистки-то эфтой, из сундука сдул?
– Н-ну? – спрашивал старый усач.
– Да что там: н-ну? Б-бей!
– Тр-ронь!..
Сзади стоявший молодец из овощной лавки хватил в это время солдата кулаком в спину и, проговоривши: «Ну, вот и ударил, – что со мной сделаешь?» – снова пугливо скрылся в живую горластую стену.
– Кто вдарил? – как зверь, вскрикнул солдат, одним махом обрушиваясь на всю толпу. – У-у-бью! Сказывай!
– Это вот он, дяденька, вас.
– Он-н? Подь-ка, подди-и-ка ты суды, чертов сын!..
Парнишка завизжал, как собака, когда солдат стал его бить своими длинными руками. Потом поглядел на него вор, бросил и сказал:
– Да ну тебя к черту, молокосос!
И опять посыпались из толпы вопросы:
– Дерется еще, словно правый! Ведь ты украл?