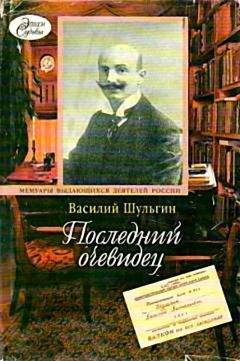— Ваше благородие, вас вызывают.
Я взял трубку. Говорил Эфем:
— Поезд сейчас выходит.
И действительно, он пришел — штук десять открытых платформ. Стали грузить. Холодно. Укрыли всех полушубками.
Я пошел на станцию посмотреть, не забыли ли кого-нибудь.
Нет. Всюду было пусто. Только четыре мертвеца лежали под стеной, неподвижные и строгие.
В очень старые времена делали из камня изваяния, так называемые надгробия, изображавшие покоящихся в гробу. Так вот, эти четыре были на них похожи.
Поезд пошел. Эфем поехал с ранеными. Он позже опять соединился с нами. Я отправил автомобили по назначению, а сам взгромоздился на гунтера. Двадцать подвод потянулось за мной. Мы шли всю ночь. Прошли сорок километров. Мерный шаг коня усыпляет до невозможности. Несколько раз я едва не свалился с седла. Едва — потому что просыпался, падая. Чтобы не заснуть опять, я отправлялся рысью к хвосту отряда под предлогом проверить, все ли в порядке. Потому возвращался обратно. Солнце давно взошло. Спать хотелось еще больше. Наконец мы дошли туда, где были наши машины.
Это было какое-то село. Там стояла старая-старая церковь, деревянная, крытая гонтом. Она блестела серебряными латками. Это была жесть, которой латали дыры. Стиль этого храма, таких много в Галиции, напоминает не то буддийские, не то японские пагоды. Изумительно!
Любуясь церковью, я опять заснул. Меня подхватили чьи-то руки и затем напоили крепким чаем. Я опять стал человеком.
Человеком ли? Жалкое ничтожество!
Когда один святой заснул на молитве, он с досады вырвал у себя веки глаз и бросил их перед собой. И там, где они упали, выросло два куста… чая. Вот почему чай такое великолепное средство от сонливости.
Так вот, этот святой был человек, но не я. Я век своих не вырывал и занялся текущими земными делами.
Но иногда вспоминал тех четырех, мертвых…
Это было 4 июля 1915 года. У леса стояли две большие палатки, на пригорке. Одна была паша ЮЗОЗОвская, другая — дивизионного пункта, только другой дивизии, без Бушуева. Я стоял у своей палатки. Дорога уходила через лес к фронту. Грохот артиллерии был уже недалеко. Я понимал, что сейчас будет приказ смываться. И на всякий случай дал соответствующее приказание.
В это время из леса показалась подвода. Она двигалась медленно, как возят раненых. Я подумал: «Ну, придется их подхватить».
Подвода подползла к палатке, но в ней оказался только один раненый. Я заглянул, увидел офицерские погоны и очень бледное лицо. Мне показалось, что он без чувств. Но он заговорил, правда, шепотом:
— Мне надо сейчас… руку отрезать… Сейчас…. Сейчас…
Я присмотрелся к нему. И вдруг узнал. Это был Голосов. Капитан Голосов, мой ротный командир.
Я ответил отчетливо:
— Сейчас все будет сделано.
И побежал в дивизионную палатку.
Это была хорошая дивизия. Здесь дивизионный пункт работал добросовестно, и потому у нас дел было мало.
У меня был тут другой врач, не Вацлав, постарше, хороший хирург. Петербуржец или москвич. Не помню. Он интересовался только трудными операциями и конскими бегами. Его страстью, истинным призванием был тотализатор. Ему было скучно у нас, и он проводил время в дивизионном пункте. Поэтому я его нашел там.
Я сказал, что у меня офицер, который требует, чтобы ему немедленно отрезали руку.
Мой врач оживился и сказал:
— Это интересно.
Но начальник дивизионного пункта отрицательно покачал головой и сказал:
— Приказ из штаба получен. Мы сейчас будем улепетывать.
Я стал просить:
— Ну, пожалуйста, это мой командир роты.
Тогда «тотализатор» сказал:
— А давайте резанем!
Начальник пункта скомандовал своим санитарам:
— Принесите раненого.
Он был почти в обмороке, но все же повторял:
— Руку… сейчас…
Я не присутствовал при операции, но руку ампутировали по плечо и сдали мне Голосова.
При этом «тотализатор» сказал:
— Ни к чему. Он умрет.
— Почему?
— Слишком много потерял крови. Сердце останавливается.
— Совсем нет надежды?
На мгновение задумавшись, он ответил:
— Совсем — не бывает. Даю два процента.
Мне показалось это огромным процентом. Мы втащили его на очень хороший грузовичок, который переделали из легковой машины. Рессоры были прекрасные, и меньше трясло.
Я спросил с картой в руках:
— Куда?
Начальник пункта назвал какое-то село, прибавив:
— Помещичья усадьба.
У меня было все готово. Я передал начальствование отряда помощнику, посадил на грузовичок, кроме врача, еще одну сестру и взгромоздился сам.
Через два часа мы нашли усадьбу и были на месте, сделав шестьдесят километров.
Хозяева уехали, но усадьба не была разрушена. Большой зал с паркетом мы превратили в палату. Одну койку привезли с собой, но там были еще диваны.
На койку положили Голосова. «Тотализатор» подошел, посмотрел на него, взял пульс и сказал:
— Жив. Удивительно. Даю пять процентов. Поите его крепким кофе и не давайте спать.
Это слышала сестра, которую я привез. Она была киевлянка. Отец и два брата ее служили в этом самом 166-м Ровенском пехотном полку, где ротным был Голосов. Спасти его было для нее вопросом любви и чести.
Я присел около койки. Моментально появился кофе. Она стала вливать ему в рот. Выпив, он прошептал:
— Спасибо. — И прибавил: — Какая удача!
После нескольких чашек кофе он промолвил также шепотом, едва слышным:
— Десять месяцев бы… Не тронуло… ни пуля… ни осколки… Ну, теперь ударила… Руку отрезали… но жив…
Сестра говорила ему какие-то слова, которые, видимо, его окрыляли:
— Не только живы, в Киев поедете.
Он подхватил:
— В Киев поеду…
Так она возилась с ним всю ночь. Кофе и ласковые слова о Киеве — что там есть и как там сейчас, чего она сама не знала, потому что была девять месяцев без отпуска.
Примерно в полночь пришел «тотализатор». Все-таки какая-то совесть у него была:
— Двадцать пять. Продолжайте. Кофе и разговор.
Ушел. Пришел утром. Спросил меня:
— Жив?
— Жив, жив, в Киев хочет ехать.
Он все же попробовал пульс и сказал:
— Пятьдесят процентов. Все бывает, но он вне опасности, если его сейчас же повезут в Киев. А вы тоже можете ехать. Ведь вас вызывают в Думу-то?
И мы поехали с этой сестрой-киевлянкой. Она спасла командира моей роты. А я теперь, быть может, тоже нуждался в помощи, хотя и другой. Так мои военные подвиги начались с капитана Голосова и кончились вместе с ним.