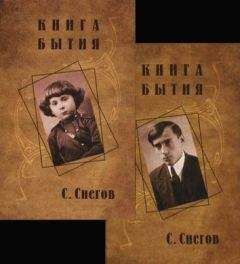Удивительно, но жизнерадостные эти бесчинства, как правило, воспринимались доброжелательно, даже поощрялись — конечно, если они не переходили в прямые преступления. Одесса всегда была веселым городом. Хулиганов здесь считали шутниками, которые слегка перестарались с дурачествами. Без забавных выдумок городская жизнь была немыслима.
В те годы по центральным улицам слонялся рослый беспризорник примерно моих лет по прозвищу Юдка Перекопец. На перекрестках он картинно застывал и зычно ревел гимн новым технологиям:
Ну, настали времена,
Что ни день, то чудо!
Гоним водку из говна —
Четвертину с пуда.
Скоро Русь изобретет
К зависти Европы,
Чтобы водка потекла
Прямо в рот из жопы.
Скоро хитрый мужичок
По-буржуйски заживет,
Все сортиры перестроит
В винокуренный завод!
Авторство приписывали Демьяну Бедному. Если это так, то в Одессе классик пролетарской литературы завоевал гораздо большую популярность своими разбитными стишатами, чем идейно-боевой серятиной — не было человека, который не знал бы этих строк. А Юдку Перекопца одаривали хохотом и медяками, а иногда и чистым серебром — Госбанк расщедрился к этому времени и на серебряные полтинники.
Юдка обыгрывал и недавно прославившегося — сначала в Одессе, а потом и во всем мире — кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, создателя фильма «Броненосец Потемкин», а заодно и гремевшего в России Сунь Ят-Сена, скончавшегося в середине двадцатых вождя китайской революции. Куплеты эти были собственной Юдкиной «рубки» и начинались так:
Едет Эйзенштейн в Китай
Ставить фильму «Сунь-Хунь в чай»
Остальное на бумаге невоспроизводимо. Одесскому гамену[44] эпохи нэпа бурно аплодировали за любые скабрезности, если в них звучало искреннее веселье. Однажды (это было недалеко от нашего дома, на бывшем толчке) я увидел, как он сердито кричал на внимавшую его импровизациям толпу:
— Граждане, что вы даете? На мамалыгу с черным хлебом? А на папиросы с пивом? А на водку и девочек? Хотите, чтоб рассердился и пошел всех кусать? У меня же с самой гражданской сифилис в каждом зубе, вы же этого не перенесете, у вас же у каждого приличные жены, по одной старой на плохого, по две молодых на хорошего. Чего всем желаю!
Угроза вызвала взрыв хохота, в Юдку полетели пятаки. Он ловко увертывался, однако несколько монет попали ему в лицо. Он радостно ругался, складывая добычу в бездонные карманы — единственную не рваную часть своей одежды.
Помню еще одну уличную забаву. Была середина нэпа, одесский порт почти полностью возродился. Во всех пяти его гаванях, недавно пустых и мрачных, швартовались солидные суда, между ними сновали портовые катера. Матросы, выходя в город, в серьезные стычки с милиционерами не ввязывались, что, впрочем, не мешало им устраивать на главных улицах — Екатерининской, Дерибасовской, Преображенской — безмолвные представления. Облюбовав какую-нибудь женщину, они гуськом шли за ней, не приставая и не разговаривая, — этакий хвост человек в десять. Несчастная скоро замечала преследование (о нем возвещал хохот прохожих) и перебегала мостовую, пыталась скрыться в подворотнях и магазинах — это почти не помогало: отброшенный было хвост выстраивался по ранжиру и терпеливо ждал, когда жертва осмелится выбраться наружу. Я был свидетелем, как в это развлечение вмешался постовой. Увидев мореманскую змею, ползущую за какой-то нарядно одетой дамой, он остановил головного матроса и грозно приказал:
— Перестаньте хулиганить! Вот еще придумали — приставать к посторонним!
Предводитель был очень вежлив — но за ним аккуратно выстроились десять безмолвных крепких ребят, готовых, если понадобится, превратить спор в потасовку.
— Товарищ милиционер, мы же ни к кому не пристаем. Ни одного нехорошего слова не сказали. Если у кого-то та же дорога, то это его личное дело — при чем здесь мы? А идти в ряд по одному удобнее: кучей не пробьешься — такая толкотня на улицах…
Однажды мы с Долей Оксман стали жертвами очередного уличного развлечения.
Из Приднестровья в Одессу прибыл цыганский табор — на постой. Такие нашествия совершались регулярно, каждую весну и лето. Цыгане раскидывали палатки на вершине Чумки — внушительного, в несколько гектаров, земляного надгробия над общей могилой погибших в свирепую чумную эпидемию девятнадцатого века. Чумка давала обильную пищу для любимых городских легенд. Все одесситы свято верили, что за одну зловещую зиму 1812 года мортусы, могильщики в просмоленных плащах и масках, свезли сюда больше 50 тысяч тел. Они бросали их в огромную яму, не снимая ни одежды, ни украшений, ни драгоценностей, не вынимая из кармана денег. И потому Чумка — хранилище богатств, превосходящих сокровища знаменитой индийской Голконды. Люди страстно убеждали друг друга, что прошло сто с лишком лет, все бактерии давно вымерли, пора разрыть Чумку и извлечь золото и драгоценности. Всем известно, что Одесса была богатейшим купеческим городом в мире — зачем пропадать такому добру? Однако и самые убежденные в безопасности старой могилы ни разу не набрались смелости прийти сюда с киркой и лопатой — а вдруг все-таки хоть один микроб только затаился, а не подох? Зачем же самому рисковать — пусть раньше другие попробуют.
Храбрые взрослые — на всякий случай — обходили чумной холм стороной. Даже мальчишки, не боявшиеся ни черта, ни ладана, взбирались на него с опаской. Я сотни раз влезал на Чумку, шлялся среди рослого — по плечи — бурьяна и каждый раз невольно трусил. Зато потом хвастался, как подвигом, своим близким знакомством с чумохранилищем.
Кочующих по степной Украине цыган одесская Чумка нисколько не страшила, и они вольно раскидывали на ее плоской вершине свои изодранные шатры. Мужчины шатались по городу, чинили во дворах прохудившиеся ведра и лудили медную посуду. Женщины гадали — на картах и по руке, умело воровали. А горожане валили в табор на представления цыганят, на время теряя первобытный страх перед грозной чумной резервацией.
Как-то Доля Оксман попросила сводить ее на Чумку — посмотреть на цыган. Вероятно, было воскресенье: между палатками толпились любопытные. Цыгане стучали молотками, цыганки предлагали погадать, дети визгливо клянчили медяки — табор гремел, визжал и грохотал, как котельный цех. К нам с Долей пристал совершенно голый цыганенок лет четырех или пяти, страшно грязный и удивительно красивый: с мощной копной вьющихся волос, запутанных в непрочесываемый клубок, и огромными черными глазами.